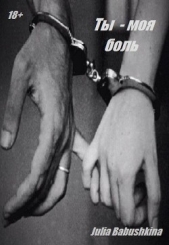Невидимый огонь

Невидимый огонь читать книгу онлайн
В прологе и эпилоге романа-фантасмагории автор изображает условную гибель и воскресение героев. Этот художественный прием дает возможность острее ощутить личность и судьбу каждого из них, обратить внимание на неповторимую ценность человеческой природы. Автор показывает жизнь обычных людей, ставит важные для общества проблемы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ночь дышала первозданной, и, вопреки хаосу шумов и вспышкам, успокоительной и освежающей красотой — и Войцеховский, все еще рассеянно гладя Нерона и понемногу приходя в себя от пережитого кошмара, смотрел, как молнии в проеме окна то и дело кромсали темное небо.
Он наблюдал за происходящим с ярким ощущением неповторимости мгновенья, как смотрит человек на знакомое и близкое его сердцу, не будучи уверен, что видит все это не в последний раз. И это тоже, видно, было отзвуком сознания, что жизнь коротка, и всегда побуждало его ловить момент, им наслаждаться. И он не жалел, что живет именно так, хотя с годами этот его тезис все больше терял под собой реальную почву и превращался в прихоть, и свидетельством тому были пять десятков прожитых лет, и притом он не чувствовал себя ни слабее, ни больнее, ни тупее, чем тридцать лет назад, — он чувствовал себя лишь немного усталым от весны и чрезмерной нагрузки… А может быть, это все же старческая немощь, только он не хочет этого признать, как не хочет признавать никто, — ведь соотношение жизнеспособности с волей к жизни постепенно ускользает из-под самоконтроля и желаемое принимается за действительное?..
Удар грома с пламенем — и Тьер жалобно закричал:
— Фе-еликс! — присовокупив, как всегда в возбуждении, ругательства по-испански и итальянски. — Фе-е-еликс!
И Войцеховский, которому вставать вовсе не хотелось, все же поднялся, нашарил ногами тапки и пошел к Тьеру — успокоить нервного южанина, то хвастливого, то пугливого, вопли которого, когда тот разволнуется, становились просто невыносимы даже для привычного уха.
— Тьер!
Он протянул руку к выключателю, но свет не зажегся, только за окном опять расколола тьму молния.
— Ну, дружок, в чем дело? — заговорил Войцеховский. — Душа ушла в пятки?
— Ах ты, нечистая сила, — поглядев в окно, выругался Тьер, потом тяжело слетел со шкафа на плечо хозяину и, приветливо урча, вцепился в него как репей, что, бесспорно, со стороны Тьера было очень мило, однако причиняло некоторую боль, потому что острые крепкие когти впивались сквозь рубашку Войцеховскому в тело.
Он вспомнил, что именно так — нечистым — назвала Тьера Алиса.
«В эту тварь вселился сам нечистый!» — сказала она, когда принесла птицу в ветеринарный участок — как петуха, со связанными ногами и крыльями, и подарила Войцеховскому.
— Ну, ты и есть нечистая сила? — вполголоса спросил он, и Тьер ответил ему таким нежным воркованьем, на какое только способна такая луженая глотка.
Как видно, в Купенах Тьер наворотил кучу дел, если уж Алиса не только обозвала его нечистым, но и по своей охоте рассталась с подарком от самого Петера…
В ту осень Петер вернулся из дальнего рейса на рыболовном судне — загорелый дочерна, с головы до ног одетый в пеструю мешанину из заграничной синтетики и поделок кустарей жарких стран, диковинный и экзотический, как этот самый Тьер, денежный и восхищенный тем, что он узнал и повидал, готовый напоить всех и каждого, кто согласится слушать его захватывающие приключения, в которых суровая действительность была сдобрена буйной фантазией. Без малого три месяца прожил Петер в Купенах и один раз даже зашел к Войцеховскому, однако не домой, а в ветеринарный участок, только о том и говорил, что о близкой весне и о новом рейсе, но вскоре после Нового года прочел какое-то объявление, мигом загорелся, в который раз бросил Алису, уехал в Сибирь… а полгода спустя прислал письмо из Туркмении.
Характер Петера до того отличался от характера Войцеховского, был так ему противоположен и несуразен, что в минуты душевного смятения Войцеховский порой начинал сомневаться, может ли быть вообще, что Петер его сын. Больше того, бывали даже минуты, когда ему страстно хотелось не быть отцом этого вертопраха и шута. Но отрицать Петера значило отрицать Еву — Еву, какой она была в его жизни и осталась в его памяти: самый близкий человек и самое светлое воспоминание. Не признать Петера означало не признавать, что в этом мире возможно и что-то чистое, — или уж нельзя верить даже Еве. И доставляло ли это ему радость или страдание, удовольствие или разочарование, — Петер, который не носил ни его фамилии, ни фамилии Евы, а звался Купеном, был его сын.
К добру это или не к добру, пан Войцеховский, что в последнее время ты постоянно копаешься в своем прошлом, чего совсем еще недавно за тобой не водилось? Может быть, не в том суть, к добру это или не к добру, а просто налицо старость, которую ты не признаешь и от которой открещиваешься, а, пан Войцеховский? И не станешь ли ты на следующей стадии кое-что приукрашивать в своей прошлой жизни? Замазывать какую-то неприглядную трещину, кое-что покрывать политурой, лаком? После такого косметического ремонта твоя жизнь, безусловно, покажется куда симпатичней. Ее можно даже причесать и подмазать, как старую даму!
— Ну, do diabla! — сердито одернул себя он, сознавая тщетность такого самоанализа и терзаний, но круговые заходы воспоминаний в минуту одиночества снова и снова затягивали его, точно в водоворот.
Самое умное сейчас было бы снова лечь и заснуть, если бы сон не развеялся безвозвратно. Чем прикажете заняться человеку среди ночи в темном доме? Было бы хоть электричество, черт возьми!
Он нашел впотьмах спички, потом свечу, зажег и, озаряемый то и дело призрачным светом молнии, ощупью добрался до кухни, включил газ и поставил на конфорку чайник. Читать при мигающем язычке пламени было невозможно, магнитофон молчал и радио тоже — как же еще скоротать время в пустом и темном доме, доставив себе к тому же маленькое удовольствие, если не сварить чашечку кофе, который уже не мог разогнать то, что все равно улетучилось, — разогнать сон?
Пока вода грелась, грозовые разряды постепенно ослабли, только дождь хлестал и стучал по-прежнему и свет не загорался. Если молния ударила в столб или трансформатор, вряд ли до утра придут исправлять, так что надо смириться с темнотой, которую бессилен развеять горящий фитиль. О чем думать человеку в грозовую ночь при мерцании трепетной свечи? Только не надо опять за старое, пан Войцеховский! Давай думать о…
А вот и чайник вскипел! Войцеховский достал кофе в зернах и кофемолку. О, czarna kawa, rum… Но как же смолоть? Psia krew, неужели придется довольствоваться чаем? А что ж остается, если тебе так трудно держать хоть малюсенький запас молотого кофе на такой — в буквальном смысле слова — черный день? Трудно, не трудно, а никогда запаса нет: забота о завтрашнем дне и о последствиях, пожалуй, никогда не была его сильной стороной и, видимо, никогда уж не будет. Не надо потакать своим капризам и быть рабом своих страстей — будем пить чай! Горящая свеча, чашка мейсенского фарфора, призрачный свет за окном, белые кальсоны и попугай на плече… Сюда бы еще колоду карт, истрепанную и засаленную, как у Мелании, и он вполне сойдет за профессионального гадальщика, пропащего, отпетого грешника и плута или же за рядового призрака с мургальского кладбища — старого картежника и пьяницу, что, улизнув за развалившиеся ворота, в законный полуночный час предается добрым старым привычками и усладам…
Войцеховский невольно прислушался. Ага, дождь утих и перестал. И гром сквозь тишину рокотал глухо и невнятно. Значит, гроза ушла. Воздух лился в окно пряный, напоенный запахом весны. Дивная ночь. Такую и проспать жалко — как Иванову ночь. И в конце концов хорошо, что гроза подняла его своей канонадой, а то проспал бы он все на свете как сурок.
Сна как не бывало, но он не чувствовал себя разбитым и усталым, как обычно, когда мучился бессонницей, — и воспоминания прошлого и теперешние ощущения были очень четкими, как будто и его освежил грозовой дождь и ночная прохлада. И он не полез в постель, а, напротив, оделся, накинул плащ, сунул в карман фонарик и в сопровождении Нерона вышел из дома.
Потонувшее в темноте Мургале казалось низким и сплюснутым под громадой бескрайнего небосвода, который вдруг осветила вспышка зарницы, тускло отразившись в сплошных лужах. Немое зарево дрогнуло и погасло, и снова надо всем сомкнулась до одури пьяная весенняя ночь.