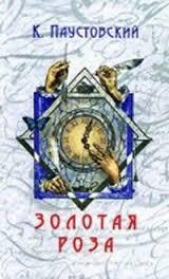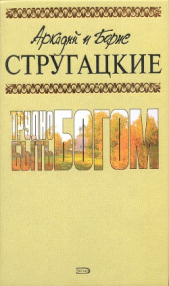Том 3. Повесть о лесах. Золотая роза

Том 3. Повесть о лесах. Золотая роза читать книгу онлайн
В третий том собрания сочинений вошли произведения: «Повесть о лесах», «Героический юго-восток», «Золотая роза».
К сожалению, повесть «Героический юго-восток» в файле отсутствует.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, — воплощение нежности и чистоты.
Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны — не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает, забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Неровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).
Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.
Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад, — в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.
— Дорогой мой, — сказала Катерина Ивановна, — уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.
Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.
Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.
Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.
Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.
— Не дай вам бог, родной мой, — сказала она мне, — дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!
Я осторожно повел ее домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мать!
Вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.
Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана.
Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как колхозный сторож стучит у околицы в колотушку.
Тогда я заинтересовался Торвальдсеном, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.
А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.
Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть ближе.
Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:
— Идите! Бабка помирает!
Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.
Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница была далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.
Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.
Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.
Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:
— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.
Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, — приказ о том, что на нее надеть после смерти, — и отдал записку женщинам, что пришли утром прибрать Катерину Ивановну в последний ее путь.
Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала прибранная на столе, и я остановился, пораженный.
Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к ее корсажу.
Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, то можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.
Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.
Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.
Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.
Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это и происходит постоянно.
Сплошь и рядом для небольшого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.
Мне пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и об его биографии, о той среде, из которой он вышел.
Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы.
То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.
Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.
Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской яйлы.
По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд.
Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».
Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов:
По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании.
Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба.
Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.
Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.
Я читал книгу Франко о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз.
В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину, не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма.