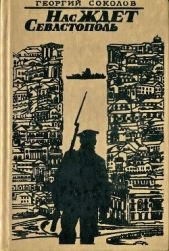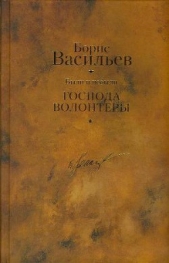Севастополь

Севастополь читать книгу онлайн
Роман классика социалистического реализма, русского советского писателя Александра Георгиевича Малышкина (1892—1938) воссоздает революционные события 1917 года на Черноморском флоте. На примере главного героя Сергея Шелехова автор на фоне великих исторических перемен прослеживает судьбу передового интеллигента, молодого офицера флота, мучительное и сложное преодоление им остатков старого мировоззрения и в конечном итоге приход в революцию, к восставшему народу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Скучно, Сережа, когда об одном и том же… У нас с вами будет общая каюта, когда мы поедем в Одессу. Я же обещала!
Она покровительственно брала его за ухо — маленького (ну да, женщина была старше его на тысячелетия!), наклоняя, шептала:
— Я же обещала: только у вас в каюте, у вас в каюте… Но скорее поторапливайтесь со своим «Витязем», а то возьму и так уеду!
Знала ведь, что это сказка — про «Витязя», который никуда не собирался…
Он провожал ее, преисполненный невеселой усталости. Проходили месяцы, и каждая новая встреча не давала ничего, кроме такого истощающего похмелья. Но все равно — через полчаса, уже сидя в катере, выпав из забытья в равновесную повседневность жизни, он снова начинал чувствовать, что бессилен усмирить в себе Жеку и постигнуть… «Что же это, — спрашивал он себя, — любовь?..» Во всяком случае, Жека никак не могла быть, подобно прочему миру, только кантианской видимостью, — слишком резко, по — настоящему причиняла она боль.
В ту ночь через катер рвался цепенящий предштор- менный ветер. Было больше похоже, что судно идет не в насиженную и нагретую бухту, а в неведомую завывающую даль скитаний… Шелехов забился в угол под мостиком, засунул руки в рукава, заник. Катер швыряло через темень, по невидимым ухабам, в снастях кладбищенски завывало. Так было хорошо, потому что и мысли от шума разбивались, путались, переходили в дремотную музыкальную нелепицу. И на востоке, за морем, за черным клокочущим плеском раскидывалось праздничное павлинье зарево, радугой играло на брызгах.
Ростов…
Это отрыгались в усталом мозгу разговоры с Лобови- чем, газеты, уличные шепоты.
На освещенных заревом улицах ходили офицеры, много офицеров, профессора, общественные деятели, члены Государственной думы со всероссийскими фамилиями и просто пожилые гуманнейшие люди, жаждущие почтительности и порядка. Мерещились благоговейные контуры университетов, департаментов, императорских театров. Останки драгоценной культуры, еще не смытые в пучину…
Не первый раз встало перед Шелеховым это видение. Чересчур много говорили кругом о калединском Ростове: одни — ненавидя и боясь, другие — видя в нем спасительно просвечивающую выручку. Да и у самого Шелехова что‑то очень знакомое связано было с этим городом, что — он никак не мог вспомнить, как ни рылся в самых мглистых недрах памяти.
Что или — вернее — кто?
И сейчас в прерывистой дремоте вилась около мучительная туманность… Почти проглядывал, близил к ней упорные глаза, но тотчас же затирал все ветер, чернина ночи… То это был мужчина, облик которого проступал неопределенно и угрожающе, то женщина, изящная и мечтательная и вместе с тем отталкивающая. Но у него не так много было знакомых женщин, он всех их мог перечесть в полминуты…
Из придремавшегося зарева вылез Винцент, палил спички перед самым носом у Шелехова, безуспешно стараясь прикурить.
— Что, большевик, ноги подломились? Сознайся, лишков перехватил с девочками? Хотя, черт… верно; такое кругом похабство, что только одно это, Сережик, и остается. У меня тоже знаменито: одна гречаночка есть на берегу, телеграфисточка…
Винцент по привычке щекотал ему пальцы, подтанцовывал, подхихикивал, описывая подробности неистового вечера, проведенного с гречаночкой. Винцент, наверно, врал, но все это так действовало на Шелехова, будто кругом него все время носили жаровню с углями. Хотелось сбить этого ржущего человека в море или вцепиться ему в воротник, притянуть к себе и слушать, слушать… Словно рассказывали про него самого и про Жеку. Сглатывая воздух иссохшим горлом, спросил:
т— Послушай, у вас там, на штабном Олимпе, ничего не известно насчет «Витяза»? Давно обещают поход на Одессу или Батум, команда только об этом и авралит. Другие, вон хоть заградители, все время имеют походы. Не слыхал?
Винцент охолодил:
— А знаешь сегодняшнее постановление съезда?
— Какое?
— Э — э, с девочками даже всю политику из большевика вышибло! Отправляют все‑таки флотилию на этого… на Ростов. — Мичман прижался поближе к Шелехову, злобился вполголоса: — И во флотилию, понимаешь, от нас назначен «Джузеппе», повезет снаряды для этой хулиганской операции. Вот распишут им там… ха — ха, знаменито!
— От нас «Джузеппе»? Это где Свинчугов?
— Вот — вот. Конечно, все это позорно, но я рад, что в первую голову выпорют нагайками эту старую сифилис- ную стерву!
— Слушай, Винцент. Вообще ты страшно несправедлив к старику… и потом… гадко так на все реагировать! — Шелехов уже совсем очнулся, и жизнь, как нагруженная чугуном телега, пронзительно и опасно громыхала над его головой.
И как‑то сразу сдернулась с сознания досадная завеса. Совсем случайные слова: Ростов, нагайка… Но из них встала далекая ночь его отъезда в Севастополь, первое в жизни мягкое купе, в которое внесли прапорщика над свалкой верные солдатские плечи. И в купе — бравый, налитой багровой кровью есаул, и его хамская нагайка на стене, и его женщина, с изнуренными от блуда и баловства цветковыми глазами. Вот кто мучал его все время, неразгаданно и грозно прятался на дне ростовского зарева! Почувствовал даже приятное облегчение оттого, что вспомнил.
На ощупь, вдогонку за чужими шагами пробирался по темной мостовой к «Витязю». Фалрепа над сходней не протянули, и тут сказывался общий развал, наплевательство на постылую службу, — приходилось подниматься по мокрым доскам над темной бездной воды, без упора, балансируя во мраке распростертыми руками. Внизу невидимо кидалась и шипела вода, — только оступись!., сходни вместе с кормой «Витязя» носило из стороны в сторону. Шелехову вдруг стало жутко, неуверенно, и от этой неуверенности действительно покачнулся, вскрикнул и, может быть, в самом деле сорвался бы вниз, если бы рука впереди лезущего человека не вклещилась ему в локоть.
— Эй, ты чего там, братишка?
Офицер с бьющимся вскачь сердцем стыдливо высвобождал руку:
— Кажется, товарищ Зинченко?
— Он самый.
Достигнув кормы, в знак признательности полез за папироской.
— Вы, конечно, уже знаете, Зинченко, насчет флотилии? По — моему, это правильно: «Джузеппе» вполне дойдет. Только как наша команда — желает?
(А сам корчился: «Зачем я задабриваю, подличаю, ведь не о том же хочу сказать…»)
Зинченко охотно прикуривал из его рук.
— Откроем запись добровольцев, вот увидите: драка из‑за этого даже может получиться. Эх, теперь матрос кипит!
— Этих господ, Зинченко, которые сидят за Калединым, я знаю: они нас, студентов, при Николае рубили шашкой за один непонравившийся взгляд. Там, Зинченко, сидит опасный зверь.
И опять не то и не теми словами высказывал, что чувствовал: надо было бы о цветковых глазах, из которых протекал сладковатый угар по всей земле, по всей его жизни. Цветковые глаза и радужно слезящиеся невские фонари… Обреченная Атлантида… Да про это Зинченко и не следовало, пожалуй, знать; ему едва ли бы оно пригодилось. Но все‑таки нужно было заставить его понять, что У них общий враг. Багровый, как вывороченное наизнанку мясо, есаул свирепствовал в памяти Шелехова, точно все происходило вчера, оберегая свой блуд и свое право презирать и повелевать сволочью. Он был уже не бессилен теперь, не повержен, как там, среди бушующей солдатни. Он издавал из Ростова удушливый виселичный запах.
— А не будь бы этой заторы, товарищ, мы бы свою программу большевиков давно бы по всей России провели. Не дают драконы ходу социализму.
— Социализму? — переспросил Шелехов.
До сих пор не мог вникнуть в смысл этого слова, оно оставалось для него одним звучанием — ширококрылым, полным неопределенных ослепительных просветов и нежилого холода.
— Социализму? Я ведь говорил при вас, Зинченко, один раз по душам: все‑таки это дело трудное. Дело многих десятилетий, а то и столетия, может быть…
— Вот так раз! — недоверчиво хихикнул Зинченко. — Какое же трудное? Взять да по всей России одну резолюцию вынести! Какое же трудное? Теперь вот, конешно, эти гады помешали: значит, отсрочка, накинуть еще… ну, от силы три месяца, полгода!