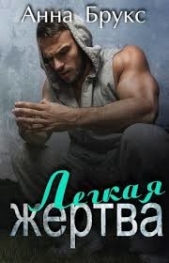Том 2. Кто смотрит на облака

Том 2. Кто смотрит на облака читать книгу онлайн
В книгу вошли повести «Кто смотрит на облака» и «Соленый лед», написанные в 1960-е годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ниточкин кончил рассказывать. Михаил Иванович помалкивал, видимо уснул под его травлю.
Больничная, больная тишина заползла в палату. И только стекла окон чуть вздрагивали от дальнего гула.
— Колонна тракторов идет. Или бульдозеры, — сказал Алафеев.
— Нет. Танки, — объяснил Ниточкин. — Ночная репетиция парада. Я этих парадов три штуки оттопал.
Алафеев вдруг застонал.
— Может, сестричку вызвонить, морфию даст? — спросил Ниточкин.
— Не надо, — сказал Алафеев, пересиливая боль, — меня, знаешь, иногда люди боялись. Я в себе злобу учился разжигать, чтобы людей не жалеть. Кому от жалости легче?
— От жалости хуже, — согласился Ниточкин.
— От злобы тоже хреновина выходит… Был у меня друг-приятель, довел я его до точки. Тогда Степа мне ножик в сердечную мышцу сунул и срок получил… Ну деньги я ему переводил, две посылки справил… Только он из смирного в бешеного превратился. Веришь не веришь, а его даже урки до поноса боялись… И он еще год за безобразное поведение прихватил…
Алафеев засмеялся, чиркнул спичку, прикурил папиросу. Желтый огонек спички высветил его лицо.
— Ты на Челкаша похож, — сказал Ниточкин. — Читал про такого?
— Нет, не помню. Ну и хорошо все это? Если был человек тихий, а потом его даже урки боялись?
— Я больше всего тюрьмы боюсь, — сказал Ниточкин. — С самого детства. Мания преследования.
— А может, и хорошо, — раздумывая, отвечая сам себе, сказал Алафеев. — Он теперь независимым человеком стал, жениться собирается… Или вот. Была у меня продавщица одна. Майка, Вокзалихой прозвали. Любила меня, жареную печенку в больницу носила. Я ее, нормальное дело, бросил, уехал. Так она от проезжего шоферюги дочку родила и Василисой назвала — в мою честь. Вот как бабы любить могут. Меня всегда любили. А тебя?
— Черт знает… Не очень.
— Они больше тех любят, кто меньше треплется и рукам полную волю дает, — сказал Алафеев.
— Наверное, ты прав, — согласился Ниточкин. — Давай, Вася, спать.
— Подожди, не спи! — быстро сказал Алафеев. — Я тебя обидеть не хочу… Я бы к тебе матросом нанялся, кабы отсюда своими ногами выйти мог… На море работа красивая, а? Я, Петя, серую работу исполнять не могу, я всю жизнь красивую искал… А теперь все одно — аут. Не хочет больше Василий Алафеев свет коптить…
— В море бывает разное, — сказал Ниточкин. Он почувствовал у соседа страх остаться одному в ночи. — Грязи и там хватает. Кому-то ее разгребать надо.
— Вот-вот, — сказал Алафеев и скрипнул зубами. — А я все одно только красивую работу признаю.
— Ну и молодец. Не докуривай, кинь мне: новую прикуривать неохота, — попросил Ниточкин.
— Лови, моряк! — весело сказал Алафеев и выстрелил окурок Ниточкину.
Окурок упал на пол между коек. Ниточкин хорошо видел тлеющий огонек, но дотянуться к нему не мог. Левой рукой он попробовал отодвинуть свою койку от стены и застонал от боли.
— Чего ты? — поинтересовался из темноты Добывальщиков.
— До папиросы не дотянуться, — объяснил Алафеев. — Обожди, Петя, я костылем перепихну.
— Сестру позовите, ребята, — сказал, проснувшись, старик. — Пожар устроите.
Алафеев взял костыль и пытался достать окурок, но тоже не смог.
— Собачка лаяла на дядю-фрайера, — сказал он вполголоса, засмеялся и что-то отцепил над собой, освобождая свое растянутое противовесами тело для большего движения. Потом он нагнулся с койки и перепихнул окурок Ниточкину.
— Зря ты, — сказал Ниточкин, разглядев в полутьме Алафеева. — Свернешь себе что-нибудь.
Алафеев не ответил и захрипел.
— Эй, ты чего? — спросил Добывальщиков. — Васька!
Тот опять не ответил. И Ниточкин увидел, что тело Алафеева сползает с койки.
— Сестра! — заорал Ниточкин.
Все они загалдели, задубасили в звонки кулаками.
Через минуту палата была полна людей в белом. И по сдерживаемой торопливости этих людей ясно было, что происходит нечто необратимое, нечто скрываемое ими. После нескольких уколов Алафеев пришел в себя. Вкатили носилки и переложили его на них.
— Прощайте, ребята, — сказал Алафеев.
— Ты упрись! Упрись, парень! — тонким голосом крикнул Михаил Иваныч. — Не поддавайся, парень! — И заплакал.
— Упрись! — заорал и Ниточкин, хотя чувствовал, что когда люди так говорят: «Прощай, ребята!» — им уже не упереться.
— Поехали! — скомандовал Алафеев. Он знал, что никогда не вернется к красивой работе. И рядом с этим вся боль в его искалеченном теле, все человеческие связи не значили ничего. Знакомое состояние покоя, смирения и удовлетворения входило в него. Ему почудилась вдали родная деревня, она все удалялась и удалялась. Потом он услышал треск слабого моторчика и понял, что сидит в корме катера, напротив младший братан Федька, а между ними бидоны. В бидонах отражается небо, вода и синий кушак берегов. Кепка на Федьке козырьком назад, самокрутка зажата в горсти, отцовская шинель накинута на плечи, один рукав вывалился за борт и волочится по воде.
«Чего везешь?» — спросил Алафеев у Федьки.
«Сливки».
«Куда?»
«На приемный пункт…»
От бегущей воды рябит в глазах и кружится голова. И в корме катера уже не Федька, а Степан Синюшкин…
Алафеева хоронили на новом, далеком кладбище. Автобус шел туда больше часа. Никто из провожающих не разговаривал друг с другом. На длинных скамьях сидели Ритуля, Степан Синюшкин, представитель городского мотоклуба и Веточка. Веточка ни о чем не думала, следила за незнакомыми улицами, как собака, которой предстоит возвращаться по ним домой. Человек, колыхавшийся внутри дешевого гроба, был чужд ей. У Веточки росло раздражение на мужа. Это он просил ее сопроводить Алафеева на кладбище. Он уверял, что Алафеев умер из-за него, из-за какого-то окурка. Все это было глупо, типично для мужа, несолидно. Он не мог понять, что беременным женщинам вредны такие развлечения.
Прилетевший утром в день похорон Степан Синюшкин был трезв. Карман его пальто топорщился от денег, собранных, чтобы проводить Василия на тот свет по всем правилам.
Ритуля держала на коленях венок из еловых веток. Покойников она брезгливо боялась и корила себя за это.
Когда приехали на кладбище, выяснилось, что дальше гроб надо везти на телеге, но ее не было.
Пошел холодный дождь. Давно стать морозам, а тут дождь. Потом приплелся старый возчик со старой лошадью и скрипучей телегой. Гроб перегрузили на телегу. Откуда-то появился фотограф, сказал, что для порядка положено снять с покойного фото.
— Т-тогда делай, — сказал Синюшкин. Он один продолжал стоять возле телеги, под дождем, держа кепку в руке. Ритуля и Веточка зашли под навес крыльца кладбищенской конторы. Возчик тоже сидел под навесом, на ступеньке, и курил, пуская дым через усы. Представитель городского мотоклуба невыносимо томился, заметно вздыхал, но держал себя в руках. Он принадлежал к тем руководителям, которые называются «техническими секретарями», ничего ни в чем не понимают, но без них не может существовать ни Союз композиторов, ни мотоклуб.
Фотограф вынес аппарат, поставил на треногу, закрыл от света и дождя черным покрывалом, приказал:
— Крышку-то сними. Что я, гроб фотографировать буду, что ли?
Синюшкин легко влез на телегу и взялся за крышку, но ее прихватили гвоздями еще в больнице.
— Постой, — сказала Ритуля. — Сейчас я…
Она зашла в контору, а Степан Синюшкин продолжал стоять над гробом. Дождь стекал по его лицу, пальто потемнело и обвисло. Он не замечал дождя и не замечал людей вокруг. Так запертый в клетку волк глядит мимо людей и будто не видит их.
Лошадь понурилась и не пыталась махать намокшим хвостом.
«Боже, как давно я не видела лошадей, — вдруг подумала Веточка. — Какая она послушная… Стоит, по ней дождь течет. К машинам привыкла… О чем я? Человек умер… О чем я? Скорее бы все… И здесь, на кладбище, деревней пахнет… Все мы из деревни когда-то вышли, все туда и уйдем…»
Ритуля вынесла топор.