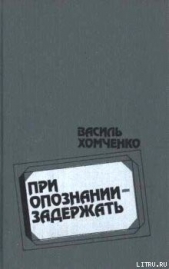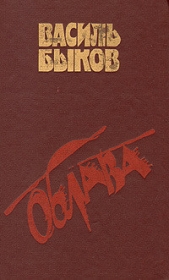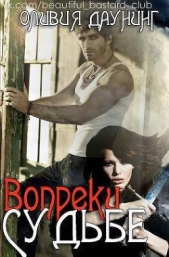Облава на волков
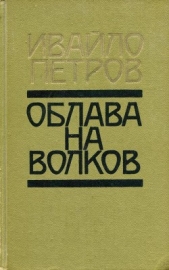
Облава на волков читать книгу онлайн
Роман «Облава на волков» современного болгарского писателя Ивайло Петрова (р. 1923) посвящен в основном пятидесятым годам — драматическому периоду кооперирования сельского хозяйства в Болгарии; композиционно он построен как цепь «романов в романе», в центре каждого из которых — свой незаурядный герой, наделенный яркой социальной и человеческой характеристикой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Опьяненная страстным желанием развенчать до конца своего прежнего кумира, Мона отказалась и от театральной деятельности как раз тогда, когда особенно нужны были постановки, агитирующие крестьян за кооператив. Несмотря на просьбы и уговоры Стояна Кралева и его жены Кички, ближайшей своей подруги, она заявила, что из-за Ивана возненавидела и сцену и все, что о нем напоминает. Так прошло два года. Однажды, в конце мая, возвращаясь из лавки, Мона увидела Ивана Шибилева — он входил в клуб. Она пошла за ним и, не думая о том, один ли он и как он ее встретит, толкнула дверь и вошла. К стене около сцены была прислонена деревянная рама с полотном, на котором контуром был намечен портрет Георгия Димитрова. Рядом стояли банки с красками, кистями и рулоны бумаги, а Ивана не было. Темно-зеленый занавес был раздвинут и по обе стороны сцены завязан веревкой, а сама полутемная сцена с голыми грязными стенами и неровным дощатым полом казалась тревожаще пустой.
Мона поднялась на сцену и подошла к двери маленькой комнатки, которая использовалась как гримерная и как склад реквизита. У комнатки не было другого выхода, и Иван мог быть только там. Леденящий холод пронзил ее тело, а рука так задрожала, что она не могла нащупать ручку двери. Она постояла около минуты, бившая ее дрожь становилась все более неудержимой, ее охватил необъяснимый ужас, словно ей предстояло броситься в бездну, из которой нет выхода. В то же время какая-то зловещая сила толкала ее вперед, и она нажала на ручку. Иван стоял, плотно прижавшись к стене и повесив руки вдоль тела, и был так неподвижен, что в первое мгновение Мона приняла его за какой-то предмет. Она шагнула вперед, и его фигура выступила из блеклого полумрака. Он смотрел испуганным, немигающим взглядом и молчал. Она обняла его за плечи и почувствовала, что он оживает, лицо его приближается к ее лицу, а от рук исходит тепло…
Николин узнал о внебрачной связи своей жены примерно через год после того, как она изменила ему первый раз. Эта связь была настолько явной, что даже его недоброжелатели не сочли нужным шептать о ней ему на ухо, — так твердо они были уверены, что он и без них знает о похождениях Моны. Однако спокойствие, царившее в его семье, и особенно счастливое выражение его лица в тех случаях, когда он шагал по селу с женой и ребенком, говорили о том, что он не придает этим похождениям ни малейшего значения. Подобное безразличие, более осудительное, чем любой порок, казалось противоестественным и встречалось в истории села впервые, поэтому наши мужички начали тыкать его носом в измену жены, чтобы узнать, почему он не желает об этом слушать — то ли он невменяемый, то ли ненормальный как мужик, то ли неспособен вынести жестокую правду. Очевидцы измены засыпали его бесспорными доказательствами, а он молчал или улыбался и шел дальше своей дорогой. Доброжелатели не знали, что и думать — перед ними был такой дурковатый рогоносец, каких в нашем краю еще не видывали.
В его же глазах то, в чем люди так усердно его убеждали, было настолько бессмысленно, что не могло быть верно. Ни ум его, ни сердце не допускали, что его жена тайком «шлендрает» с чужим мужчиной. Мона дарила ему свои супружеские ласки с истинной страстью, и попробуй обвини ее в неверности, если ты испытал магию ее улыбки, если ты принимал из ее рук ребенка и слышал, как она говорит: «Ну, обними папочку!» К Ивану Шибилеву, на которого указывали как на любовника его жены, он относился с таким уважением и восхищением, что ни за что на свете не мог поверите, будто тот наставляет ему рога. Не мог такой человек, как Иван Шибилев, умный и обходительный, с золотыми руками и разнообразными способностями, тайком проникать в его семью и красть его счастье, как крадут скотину или имущество. И Николин не только не ревновал к нему свою жену, но радовался, что и она вместе с ним так замечательно играет на сцене. Они так мастерски вызывали у публики смех и слезы, что, когда в конце представления им аплодировали и кричали «браво», он краснел от удовольствия и преисполнялся гордости за свою жену. Способности, дарования и ученость он отождествлял с добротой и честностью, и тогда доброжелатели, ожесточенные его упрямством, глупостью или слепотой, а также действуя во имя «святой истины», принялись доказывать ему, что и ребенок — не его, а Ивана Шибилева.
При всем при том в селе не было в то время человека счастливее, чем Николин. Он стал уже чабаном в кооперативном хозяйстве и пас общую отару на стерне, где сохранялось много травы. Пока она еще не была вытоптана, все село пускало туда скотину. Дни стояли жаркие, и стерня расстилалась под ярким солнцем как золотистая, добела раскаленная бесконечность. К десяти часам овцы начинали сбиваться в кучки и ложиться, и тогда Николин гнал их к селу. В детстве он пас два десятка соседских ярок, с тех пор мечтал о большой отаре, осле и собаках, и теперь мечта его сбылась — у него была отара из двухсот овец, осел (Дренчо со двора деда Мяуки) и две собаки. Дренчо тащил притороченную к седлу баклагу, торбу с едой, бурку и возглавлял отару. Для Николина было настоящей радостью смотреть, как он выступает спокойно и чинно, с важностью древнего предводителя, как овцы тянутся вслед за ним длинной вереницей, а собаки, как два стража, идут по сторонам, будто бы безразличные, но готовые броситься на каждого, кто приблизится к отаре. Сам он шагал где-то посередине отары, закинув за плечи герлыгу и повесив на нее руки, прислушиваясь к мелодии полногласных колокольцев и высокому звону медных бубенцов. Длинная темно-коричневая вереница отары ползла, подобно змее, едва заметно подрагивая, волоча за собой белый шлейф пыли, и втягивалась в село под равномерный звон бубенцов. Дренчо первым подходил к старой шелковице с твердыми пыльными листьями, а овцы брели на сыроварню — круглую площадку, обнесенную низкой каменной оградой с двумя узкими, один против другого, проходами. Разгружая осла, Николин несколько раз кричал во весь голос: «Э-хей, э-хе-эй!», и к сыроварне подходили старухи с медными ведерками, а с ними и ребятня. Старухи садились на плоские камни, в два ряда, друг против друга, перед входом в сыроварню, а ребятишки изнутри по одной гнали овец. Скоро в душном воздухе разносился сладковатый запах прелой шерсти, навоза и парного молока, а сквозь женский гомон прорезался нежный приглушенный звон молочных струй, ударявших в пустые ведерки. Дренчо удалялся походкой солдата, сменившегося с поста, вольготно раскидывался на соседской навозной куче и грелся на солнце, собаки ложились неподалеку, а выдоенные овцы, опустив головы, подбегали к шелковице и собирались в тени. Николин шел домой обедать, поспать несколько часов и сделать кое-какую мужскую работу. Больше мужчин в доме не было — дед Мяука умер вскоре после организации ТКЗХ. Единственным условием, которое он поставил, вступая в кооператив, было, как мы уже знаем, сохранение за ним любимого кабриолета, и Стоян Кралев уважил его просьбу. Другие кооператоры сдали свое имущество и скотину, а дед Мяука продолжал, как и раньше, раскатывать по селу на двуколке вместе с верным Петко Болгарией, вызывая всеобщую ненависть. Однажды ночью с кабриолета сняли и утащили колеса, а коня отогнали в общую конюшню. Дед Мяука провел сутки, свернувшись по-кошачьи, в кожаном деветаковском кресле, а наутро Петко Болгария нашел его мертвым.
Под вечер, по холодку, Николин снова выводил отару в поле. Он любил стоять, опираясь на герлыгу, словно чабан былых времен, и смотреть, как овцы жадно щиплют мягкую траву, как солнце, все более громадное и пламенное, опускается к синей линии горизонта и медленно за нее уходит, как бледнеет закатное зарево, все вокруг заливает мягкий прозрачный свет, в этом свете по стерне на цыпочках приближается ночь и шаги ее потрескивают тихо и звучно. В такие вечера он часто слышал, как чабаны, остановившись неподалеку, говорят о том, что, мол, его дочка Мела вовсе и не его дочь, а Ивана Шибилева, при этом делают вид, будто не замечают его в сумерках, и перекликаются так громко, что голоса их разносятся далеко вокруг. Николин улыбался и проходил со своей отарой мимо. Чем грубее и оскорбительнее были сплетни о его жене, тем более невероятными они ему казались и тем меньше его трогали. Вместо того чтобы страдать от ревности и отчаяния, чего добивались его доброжелатели, он испытывал странное чувство наслаждения от их тщетных попыток открыть ему глаза. Чуть ли не все село поставило перед собой задачу разрушить его счастье, а это как раз показывало, как оно велико и неуязвимо. Он был один против всего села и побеждал в борьбе благодаря одному-единственному оружию — своей вере в жену. Но люди не хотели мириться с его глупой верой, тем более что она подрывала моральные устои села и поощряла разврат.