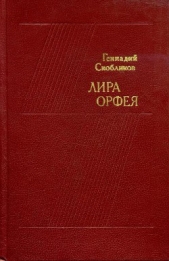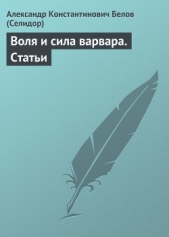Старослободские повести
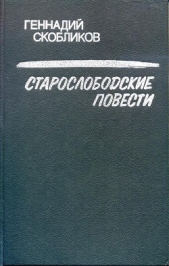
Старослободские повести читать книгу онлайн
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека — таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» — от названия деревни Старая Слободка — родины автора и героев его повестей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не решаюсь встретиться с его взглядом.
Пленные стоят шагах в десяти от нас. Старый зыркает на отца, быстро что-то говорит своему напарнику и кивает в сторону выгона, где остались еще нерасквартированные. Длинный, видимо, не соглашается, устало мотает головой. Только теперь я замечаю, что он совсем еще не мужик, даже не бреется: на верхней губе и на подбородке у него белый пушок. Видно, он здорово уморился, пока прошел тридцать километров от Курска: стоит шатается, голова едва держится на длинной тонкой шее.
Я никогда и ни за что не признаюсь братьям, но в эту минуту мне жалко этих немцев, особенно молодого, мне вроде бы неудобно перед ним за отца. Я поглядываю на Петра: он со смелостью хозяина смотрит на немцев, спокойно ждет, что будет, — и мне становится ясно, что я хуже и слабее брата, хуже и слабее всех ребят в деревне, раз жалею сейчас этих гадов, а они убивали наших, они били отца в оккупацию и чуть не убили его на войне, убили на войне нашего дядю Степу, расстреляли в Ростове оставшегося на подпольную работу дядю Захара — брата покойной матери.
Я чувствую, как во мне тоже закипает ненависть к немцам, что поубивали столько наших, я со злобой смотрю на этого старого с носом и глазами кобчика и уже смело перевожу взгляд на отца: так им, мол, пап, и надо!
По другую сторону улицы у низенькой глиняной пуньки стоит наша соседка, тетка Пора, с любопытством наблюдает за нами. Тетка Пора — ровесница моему отцу, а кажется моложе его вдвое: прямая, статная, в новой черной фуфайке, в белом платке, лицом белая, сытая. Муж ее умер еще до войны — я его и не помню, сын служил в НКВД, но где-то в неопасном месте, каждый месяц присылал по одной, а то и по две посылки; зять еще служит в армии. Тетка Пора с дочерью и внуком живет после пожара в покосившейся пуньке — живет сытно, но тесно: к ней не поставят немцев.
— Гони ты их к чертям у рот! — громко советует отцу тетка Пора. — Ишь, выдумали: в хату их, сраных, пускать!..
Отец мельком смотрит на соседку, на нас, на немцев, отрывает от земли костыли — в какое-то мгновение мне кажется, что он бросится сейчас на пленных, — резко поворачивается кругом и через двор быстро уходит на огород.
Мы ждем, пока отец скроется в вишнях, киваем пленным и идем в хату.
Мачеха тетя Поля на кухне, трет картошку на хлеб. Она пристроилась в полутемном закутке между печкой и столом и трет стоя, низко переломившись над черной пустотой кадушки. Трет она быстро, ожесточенно, ее спина, плечи, голова упруго двигаются в такт движениям руки.
Мы с братом знаем, что тетя Поля злится на нас — и поделом: она пришла с плантации, где весь день обрезала свеклу, и вот теперь должна тереть картошку — целых четыре ведра, на них придется полрешета лузги и три-четыре пригоршни муки. «Ту, — сказала мачеха о Марусе, — черти молчком в Щигры укатили, а эти — это уже о нас, — не могли сами догадаться, во все носом ткнуть надо». Больше она ни слова не сказала нам. Тетя Поля живет с нами всего лишь один месяц и пока редко ругается на нас.
— Теть Поль? — окликаем мы мачеху и киваем ей на пленных: те стоят у порога сзади нас.
Мачеха смотрит на нас, на пленных, отряхивает над кадушкой руки, осматривает стертые пальцы — короткие, толстые, темные от земли и воды, все в кровоточащих трещинах — и наконец с трудом разгибает спину. Теперь она стоит напротив окна, тыльной стороной мокрых ладоней поправляет волосы: они у нее всегда торчат из-под платка, как-то нелепо повязанного, узлом на затылке, и вечно грязного. Одутловатое лицо тоже грязное, все в жирных полосках пота — как пришла с плантации, так и не успела умыться.
— Гутен абенд, матка! — громко сказал «кобчик» и угодливо поклонился тете Поле. Молодой молча кивнул головой.
Мачеха будто не слышит их: прислонилась к печке, скрестила на груди руки.
— Отец видал их?
— Видел. Он на огород пошел.
Я наблюдаю, как старый обшаривает глазами потолок, печку, подпол, на котором кучей навалено всякое тряпье, лавки вдоль стен и останавливает взгляд на ведрах с водой.
— Васер! — хрипло выдавливает он и смотрит на тетю Полю. Молодой тоже, не отрываясь, смотрит на черную в ведрах воду. — Матка, васер! — уже громче и настойчивей повторяет старый и кивает на ведра: — Бите шён.
— Он что — пить просит?
— Наверно.
— Подайте им.
Я беру со стола полулитровую белую кружку, зачерпываю ее до краев. Пленные аж подались вперед, каждый ждет, чтоб я подал ему первому. У меня дрожит рука, вода выплескивается через край. Я хочу подать молодому — он нетерпеливо тянется мне навстречу, — но старый стоит ближе и так впился в меня своими ястребиными глазами, что у меня не хватает решимости протянуть кружку мимо него. Вторую кружку я подаю молодому; он принял ее обеими руками, но пьет не как старый, в три глотка, а медленно, будто сосет. Потом я подаю им еще по одной.
— Отец ничего не сказал?
— Не.
— Им же спать гдей-то надо.
— Отец ничего не говорил.
— Полькь! — доносится со двора голос отца. Мачеха выходит и вскоре возвращается со снопом соломы. Она относит солому в горницу в пустой угол за лежанкой, берет старую домотканую попону, бросает ее на солому и кивает пленным: проходите. Сама берет цибарку и уходит доить корову.
— Смотрите тут, — сказала она.
Немцы проходят в горницу. Отстегивают котелки, снимают ранцы. Молодой тут же валится на солому, но старый поднимает его, делает постель, и уж потом молодой ложится опять.
Старый достает из ранца металлическую безопасную бритву, помазок, мыло, маленькое квадратное зеркальце, полотенце, алюминиевую кружку — все у него, у гада, есть. Ранец он прячет под солому в изголовье, бритвенные принадлежности завертывает в полотенце и выходит на кухню. С кружкой в руке он идет прямо к ведру, но потом останавливается и вопросительно смотрит на нас. Мы киваем: бери, хоть ведро.
Немец пристроился бриться у плетня. Снял гимнастерку, засучил рукава исподней рубахи, стоит намыливается перед зеркальцем. Мы из сумрака хаты смотрим в окно, как бреется немец, как ловко и быстро чешет он по лицу своей бритвой.
Из сарая вышел отец. Пленный заметил его, как-то непонятно закивал, но отец отвернулся и быстро прошел в хату. Он потоптался на кухне, прошел в горницу, по-хозяйски зорко все осмотрел там и задержался над молодым. Тот, кажется, уже спал. Отец приподнял в руке костыль, будто хотел ткнуть им пленного... посмотрел на нас и быстро ушел из хаты. Он явно не находил себе места.
Побрившись, «кобчик» пришел в хату и растолкал молодого. Тот долго не мог проснуться, но старый заставил его встать и идти вместе с ним умываться. Тетя Поля велела мне вынести им ведро воды.
Когда они оделись и уселись на свою постель, старый достал губную гармошку и стал наигрывать нашу русскую «Катюшу». Потом он вышел на кухню:
— Мальчик кочит? Битэ, — и протянул мне гармошку.
— Не смей брать! — окликнула меня мачеха, зажигавшая в этот момент лампу. Она могла и не кричать — все равно я не взял бы. Пленный стоит некоторое время, держит в протянутой руке гармошку, на сизом после бритья лице жалостливое недоумение. И опять, как и на улице при отце, я испытываю какое-то неудобство перед ним. Видя, что ни я, ни Петр не возьмем у него гармошку, пленный уходит на постель.
Из горницы опять донеслись звуки гармошки. Теперь играл молодой. Он наигрывал, должно быть, какую-то свою немецкую песню — грустную и очень простую. Казалось, что пленный все время повторяет одно и то же место, но с каждым повтором мелодия заметно менялась — она будто очищалась, становилась прозрачной, светлой и еще более печальной.
Мы все трое невольно затихли. Тетя Поля подперла ладонью щеку, и не понять было, то ли она внимательно слушает игру пленного, то ли занята какими-то своими мыслями. Я смотрел на нее — в этом ее нелепо повязанном грязном платке, на ее толстые черные пальцы, которыми она водила в задумчивости по щеке, видел ее глаза, серые, потухшие, и сам не знаю почему, впервые почувствовал, что ей трудно и одиноко с нами. Мне вспомнилось, как соседка тетка Пора говорила ей недавно во дворе: «Э, голубушка ты моя родная, так и подохнешь собакой. Твое дело вырастить, а потом здорово нужна им будешь!.. Уж это известно»... И наша мачеха, хоть и не поддакивала соседке, но и не возражала ей.