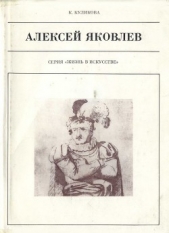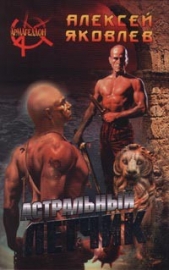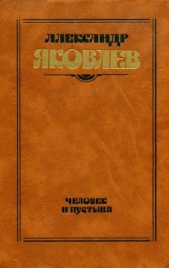Человек и пустыня
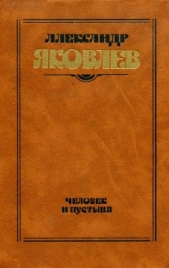
Человек и пустыня читать книгу онлайн
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Осень надвигалась. День и ночь над степью — под низким серым небом — тянулись к югу стаи перелетной птицы, кричали тоскливо. И степь, прощаясь с ними, хмурилась, и лицо у ней становилось серым-серым.
Овраги и лиманы наливались водою, отрезали дорогу, не давали ни прохода, ни проезда, и в степи людская жизнь замирала. Лишь буйно пели ночами села и хутора, где теперь были сыть и отдых. Ночи были черные как сажа.
По черным непролазным дорогам черными ночами и серыми днями подходил батюшка Покров. Его ждали с радостью и нетерпением: «Батюшка Покров землю снегом покроет…»
И правда, вечерами уже замораживало, ветер дул с посвистом, облака неслись быстрее, и срывался первый снег. И ночью однажды взвыла метель, крутягом закрутился снег, укрывал холодную, сырую землю. Снег лег не сразу. Он таял, степь опять чернела, но неделя какая — и все кругом побелело.
По селам и хуторам еще ждали. Ждали, когда «придет Егорий с мостом», а за ним «Никола с гвоздем». Тогда вся белая степь будет как дорога — куда хочешь поезжай.
И тогда отовсюду — из сел и хуторов, деревень и колоний — по всем дорогам длинными-длинными лентами шли обозы к Балакову, к Покровску, к Баронску: везли новый хлеб.
На зимнего Николу в андроновском доме в Цветогорье служили торжественный молебен — в благодарность Николе за урожай и прибытки. Так уже велось из года в год.
К николину дню выяснилось, сколько где чего собрано: не только на своих землях, в своих краях, но и в целой стране и, гляди дальше, в целом мире. В конторе среди пачек писем и газет, что приходили каждый день, попадались письма на имя Виктора Андронова с пестрыми нерусскими марками.
Никольский молебен был всегда только свой, и никого посторонних на него не приглашали. Ныне — вот уже семь годов — прибавились Зеленовы.
Иван Михайлович в черном кафтане-сорокосборке стоял, как черный высокий столб — толще всех, крупней всех, с черной бородищей, тронутой сединой. И рядом с ним, на голову ниже, Василий Севастьянович — круглый, рыжебородый, подвижной. Оба они старательно подпевали дьячку: Иван Михайлович — густым бубукающим баском, Василий Севастьянович — сладким тенором. Оба размашисто крестились и кланялись в землю уставно, на подручники. Впереди сватьев стояли мальчуганы: одному пять лет — Иванушке, другому четыре — Васеньке. Оба тоже в черных кафтанчиках. А позади сватьев, тоже в кафтане и тоже с подручником у ног, — сам Виктор Иванович Андронов, ростом с отца, но тоньше, стройнее. У него красивая небольшая бородка, прическа лежала модной скобкой, и по тому, как он крестился и кланялся, было видно, что Америка и академия не даром прошли для него: что-то неуставное глядело в нем, вольное.
А на женской стороне — обе свахи: Андрониха и Зелениха, и с ними Елизавета Васильевна. Все они сверкали белизной шелковых платков и негнущихся тяжелых парадных платьев, все три породистые, большие, точно баржи. И с ними девочка лет двух — Соня.
У дверей и вдоль стен полным-полно набилось своего народа — домашние, приказчики, приживалки, прислуга, кучера, караульщики…
— Отче священноначальниче Николае, яко мы усердно к тебе прибегаем…
Голоса пели строго, уставно. Виктор Иванович полузакрыл глаза, и ему казалось, что все, все как в детстве. Сколько раз так же вот, как теперь Ваню или Васю, держал его перед собой дедушка во время домашних молебнов. Он прикинул, как изменилась жизнь, и усмехнулся. И тотчас погасил улыбку и перекрестился торопливо.
Кадильный дым, медленно поворачиваясь, поднимался к потолку, синел в лучах скупого солнца, бившего сквозь двойные стекла. Виктор Иванович пристально посмотрел на дым.
И выпрямился. Он привык в такие дни — маячные, чем-нибудь отмеченные, — привык учитывать, что сделано им за месяц и за год. И сколь много сделано!
Кидком бросила его жизнь вверх. Ему только тридцать лет, а о нем говор идет по всей Волге, его знают в Москве, Петербурге, Берлине, Лондоне, Стокгольме.
— Многая лета! Многая лета!
Это ему поют так торжественно, сильно, прославляюще — ему, Виктору Ивановичу Андронову.
После молебна все пошли в столовую — угощать духовенство. И поп — старый, уважаемый — больше говорил с Виктором, чем с его отцом и тестем, и в глазах у него глядела наивность, любопытство и почтение, как будто Виктор Иванович для него был необычайным человеком. А дьячок и причетники только глядели на Виктора Ивановича и не решались заговорить.
За длинный стол, обильный яствами и (по-постному) скупой бутылками, уселись все. На дальнем конце, под присмотром бабушек, сели внучата.
Угощал Иван Михайлович:
— Отведайте, батюшка, пирога с рыбой. Нам новый повар пек. Сынок из Москвы нового повара привез. Я было сперва рассердился — все расходы да расходы, а теперь вижу: дело не плохое.
Поп почтительно улыбнулся.
— По прибытку и расходы. Греха тут нет.
— Я тоже полагаю, отец Ларивон, что греха тут нет! — воскликнул Василий Севастьянович. — А спасение явное. Бывало, хорошо поешь — сразу подобреешь. А добрый человек разве согрешит?
Отец Ларивон закивал головой:
— Что верно, то верно. А вот я хочу спросить тебя, Виктор Иванович, какие пироги в заграницах едят? Сладкие, поди, больше?
— Совсем пирогов не едят, батюшка! И знать о них не знают.
— Ого! Да как же так?
— Все больше печеньями да сухариками пробавляются.
И пока Виктор Иванович рассказывал, как едят и пьют в «заграницах», все почтительно слушали. Поп покачал головой, сказал:
— Время-то что оказывает. Гляди тебе — Америка, гляди тебе — Англия. А я вот дальше Самары во всю жизнь нигде не был.
— Нам чего унывать, отец Ларивон! — воскликнул Иван Михайлович. — Мы свое взяли. У него вся жизнь впереди. Я и то вот только благодаря сынку в Москву-то попал. А то никогда бы и слухом ничего не слыхивал.
— Куда теперь сынков-то определишь, Виктор Иванович? Сам все науки произошел, всю землю оглядел. Им мало что и останется!
— Ничего, батюшка, лишь бы задались — хватит и им работы.
— Зададутся. У хорошего отца хорошие дети.
Иван Михайлович махнул рукой.
— Ну, не скажи, отец Ларивон! Вот у Северьяна Михайловича, слыхал, что сынок-то делает? Бунты затевает. В тюрьму его посадили.
— Кому что на роду написано.
Виктор Иванович вмешался:
— А я так полагаю, батюшка, что нам нет нужды осуждать тех, кто за политику да за веру сидит в тюрьме. Вспомним прошлое. Преподобного отца Аввакума, например, боярыню Морозову. Не всегда будешь радоваться, если тебя жмут.
— Что правда, то правда.
— Чем мы не русские люди? А гляди, как нас, староверов, притесняют! Однажды в Америке я встретился с одним господином. Такой же, как все: бритый, толстый, заговорили по-английски. Он спрашивает: «Откуда?» — «Из России». — «Русский?» — «Да». Он вдруг по-русски и заговорил, да как! На «о», по-нашему, по-волжски. Я и рот раскрыл. Оказалось — старовер. Их целая колония там — убежали из Нижегородской губернии от наших мытарств.
— Что говорить! Достаточно известно, — поспешно согласился поп.
— Ну, что там! Нашли об чем говорить! — забеспокоился Василий Севастьянович. — Ну, посадили и посадили… Нас это не касаемо. Ты про политику, Виктор, брось. Который раз я от тебя слышу. Аль ты тоже стал политикой ушибаться? Студенты бунтуют невесть чего.
— Они знают, из-за чего бунтуют.
— Одначе ты не вмешался, когда у вас академия бунтовала.
— Я и сейчас не вмешиваюсь. А только что ж, не надо забывать: у бунтарей есть своя правда.
Василий Севастьянович настойчиво замахал руками и оборвал разговор. И на его толстом лице мелькнуло столько плутовства и насмешки, что все невольно улыбнулись.
Когда поп и причт ушли, Виктор Иванович повел отца и тестя к себе в кабинет. Василий Севастьянович обнял Виктора за талию, сказал:
— Осторожность никогда не мешает. Разве ты знаешь, перед кем сейчас говорил? За нами — староверами — во все глаза глядят. Глазом не моргнешь, как могут слопать. «А ну, — скажут, — отправить Виктора Андронова на церковное покаяние в Соловки лет на десять». Что тогда? И богатства тебя не спасут.