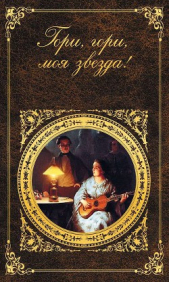А ты гори, звезда

А ты гори, звезда читать книгу онлайн
Читателю хорошо известны книги лауреата Государственной премии СССР Сергея Сартакова: «Барбинские повести», «Хребты Саянские», «Ледяной клад», «Философский камень». Его новый роман посвящен соратникам В. И. Ленина, которые вместе с ним боролись за создание большевистской партии, готовили победу Октября в России. Одним из них был Иосиф Федорович Дубровинский, профессиональный революционер, человек несгибаемой воли, беспредельно преданный делу революции. Роман широко и ярко воссоздает историческую обстановку в России на рубеже XIX–XX столетий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сжатое телеграфное сообщение недели через две пополнилось письмом, в котором Юлиан смятенно рассказывал о последних часах жизни Леонида Петровича, о его похоронах.
«Мне верилось, верилось до самой роковой минуты, — прыгающим почерком писал студент, — что все обойдется, что это простой приступ — не больше. Леонид Петрович глухо стонал, комкал пальцами край одеяла, говорил, что это конец, но что он счастлив… Тогда я погнал служащего гостиницы за врачом, потом — врача долго не было — и сам побежал. Попросил кого-то посидеть у постели. Я был весь как в угаре, не отдавал себе отчета, что я делаю правильно и что неправильно. Нашел и привел врача, но в комнате был уже другой врач. Пахло камфарой. Блестели склянки, иглы. Ужасно! Мне запомнилась кровь на подушке. А глаза Леонида Петровича уже были закрыты, кто-то положил на них медные пятаки. Почему я ушел и не слышал его последних слов! Потом мне рассказывали, что он все повторял женское имя… Какое?
Что делать после, я не знал совершенно. Хозяин гостиницы оттолкнул меня, все взял в свои руки. Появилась полиция, монашки, гробовщик с деревянным аршином. Меня послали на Аутское кладбище выбирать место. Я ходил между железными крестами и каменными плитами. Плакал. Выбрал место под молодым кипарисом. Кладбищенский сторож сказал: почему-то нельзя. Тогда мы пошли вместе на самый край. Там тоже росли деревья, густая тень. Мне не понравилось, хотелось чуточку солнца. А сторож сердился. Со мной денег было мало, я отдал их все. Тогда он поставил колышек среди заброшенных могил, но и с солнышком и под какими-то кустами. Кажется, это мирт.
Хоронили так, как приказывали хозяин гостиницы и полиция. Меня не слушали совершенно, потому что я не родственник Леониду Петровичу и ничем не мог доказать свое право распоряжаться. Он попал в категорию безродных, притом из числа недавних преступников — политических ссыльных. Все делалось в спешке, в страшной спешке, а главное, никто со мной не желал разговаривать, будто я и хозяину гостиницы и полицейским властям причинил какое-то зло.
А когда все закончилось, я потребовал, чтобы мне передали вещи Леонида Петровича, рассчитывая отослать их вам, особенно его рукописи. Но хозяин гостиницы нахально заявил, что они будут проданы с молотка, чтобы погасить долг за проживание у него в номерах, рассчитаться с гробовщиком, могильщиками, попом и еще кем-то. Словом, даже на память о Леониде Петровиче какого-нибудь крошечного предмета и то он мне не дал. Где находятся рукописи, тоже я не добился. Пожаловался в полицию, жалобу не приняли…»
Читать это было совсем непереносимо. Какая дикость! Какое глумление над прахом покойного! Вот она, месть самодержавия каждому, осмелившемуся восстать против него!
Винить ли в чем-нибудь Юлиана? В чем? Молодой, неопытный человек был оглушен внезапной катастрофой, растерялся. И тем не менее он сделал все, что смог. Остальное оказалось во власти сильных. Но рукописи, рукописи Леонида Петровича? В свинцовые сердца полицейских чинов бесполезно стучаться. Почему Юлиан не обратился к Антону Павловичу Чехову? Тот великим своим авторитетом, возможно, заставил бы полицию, хозяина гостиницы выдать рукописи. Об этом Юлиан ничего не пишет. Похоже, он и здесь растерялся, не подумал о Чехове. Но, может быть, на эту беду, Антон Павлович как раз куда-нибудь отлучился из Ялты или оказался болен. Ничего, ничего не известно, а студент теперь уже в Казани!..
Попросить Конарского написать Чехову? Да, это сделать совершенно необходимо. Вызволить драгоценные рукописи во что бы то ни стало!
Прошло еще больше месяца, и почта доставила новую весть, опять убийственную. Конарский сообщал: «Антон Павлович лично занимался поиском рукописей. Увы, от них решительно ничего не осталось. Их, выкинутых на торгах из чемодана при распродаже имущества Радина, подобрал владелец мелочной лавки и пустил на обертку».
Удар за ударом… Что же, так и исчезнет бесследно все связанное с именем Леонида Петровича Радина? На обертку пущены рукописи большого ученого! Сам он полагал, что в них — открытие. Хотя был к себе очень строг. Затеряется и могила на Аутском кладбище, упадет хиленький крест с железной табличкой, где обозначены даты его рождения и смерти. Останутся только жандармские протоколы допросов да записи в тюремных реестрах?
Леонид Петрович так любил повторять строки стихов Гейне: «Где ж смена? Кровь течет, слабеет тело… Один упал — другие подходи! Но я не побежден: оружье цело, лишь сердце порвалось в моей груди».
Да, да, главное — не сдаваться!
Вспоминалось и другое: «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе».
Сколько раз пелась здесь эта песня вместе с ее творцом Леонидом Петровичем! Но пели ее и очень многие, в глаза даже не видавшие Радина и не знавшие, кому принадлежат слова. Пели в одиночках Таганской тюрьмы, пели в душном трюме баржи, что медленно тянулась на буксире от Казани до Вятки, пели и потом, бредя по этапу под холодными осенними дождями, скользя и падая в намывы липкой, вязкой грязи.
Ее поют повсюду, по всей России. И будут петь! Потому что в ней — душа народа, стремящегося к свету, душа революции.
Постепенно горечь утраты сгладилась, боль притупилась, и Радин словно бы заново вернулся в сознание Дубровинского — живым, упрямо делающим свое дело, только где-то вдали.
Тем временем наступил и петров день. Все формальные препоны для свершения обряда бракосочетания двух политических ссыльных Дубровинского и Киселевской были сняты. Исправник изволил даже пошутить, понимая, что пора наконец сменить свой долгий гнев на милость, дабы не выглядеть совершеннейшим зажимщиком любых свобод.
— Ну-с, когда и по какому поводу ожидать от вас новую бумагу, господин Дубровинский? — спросил он наигранно добродушным тоном. — Насколько я понимаю, вам доставляет всегда огромное удовольствие писать бумаги. Не скрою, получать их от вас и отписываться на них губернатору мне тоже доставляет удовольствие. Как и вообще иметь дело с социал-демократами. Гуманнейшая публика! Вы ведь и в крайнем раздражении не бросите в меня бомбу? Чего я не сказал бы о некоторых других политических течениях. Желаю вам семейного счастья!
День и час венчания Дубровинским был избран такой, когда в церкви толпилось бы как можно меньше праздных, любопытствующих обывателей. И ему и Киселевской неприятным казалось выставлять себя напоказ.
Он пригласил только тех, без кого по церковному уставу обойтись вообще не представлялось возможным. Пока отец Симеон бегло читал положенные молитвы, спрашивал скучным голосом, по согласию ли они оба вступают в брак, надевал им на пальцы обручальные кольца и давал выпить по глотку вина из одной чаши, Дубровинский не смел поднять глаз на Анну Адольфовну: жег какой-то внутренний стыд. Самые глубокие, затаенные чувства, и вот надо их открывать посторонним, разыгрывать пошлый спектакль…
Надолго врезалось в память, как покривились в пренебрежительной усмешке губы отца Симеона, заметившего, что с пальца новобрачной все время соскальзывает обручальное кольцо, а она, чтобы не потерять, зажимает его в ладошку. Поп догадался, что кольца-то взяты напрокат. По бедности ли, по дальнейшей ли в них ненадобности — все равно. Он знал: венчает не чад своих послушных, а противников своих.
Но, так или иначе, трудный день завершился. Без свадебного пира, без визжащей гармоники и шумных, пьяных криков: «Горько!» Посидели вечерок за чашкой чая друзья. Посаженые родители, Федор Еремеевич Афанасьев и Прасковья Игнатьевна, произнесли маленькие поздравительные речи. И все.
А затем жизнь вошла в свое обычное русло. И оттого, что Анна — отчество теперь не требовалось — сделалась совсем близкой, оттого, что любые заботы, духовные и житейские, приходилось решать только сообща, все вокруг стало как-то полнее и значительнее.
12
Игривый вопрос исправника насчет того, скоро ли ожидать «новую бумагу» от Дубровинского, почти забылся. Не то, что совсем уж не находилось поводов писать такие бумаги, поводов было достаточно, но не имело смысла бить лбом в кирпичную стену.