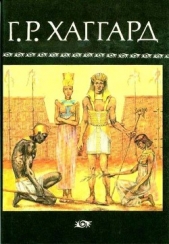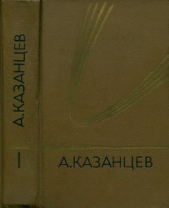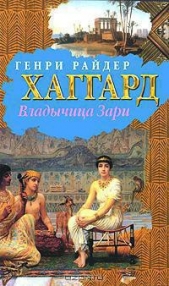Том 2. Брат океана. Живая вода

Том 2. Брат океана. Живая вода читать книгу онлайн
Во второй том вошли известные у нас и за рубежом романы «Брат океана» и «Живая вода», за последний из них автор был удостоен Государственной премии СССР.
В романе «Брат океана» — о покорении Енисея и строительстве порта Игарка — показаны те изменения, которые внесла в жизнь народов Севера Октябрьская революция.
В романе «Живая вода» — поэтично и достоверно писатель открывает перед нами современный облик Хакассии, историю и традиции края древних скотоводов и земледельцев, новь, творимую советскими людьми.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Начальнику нашего строительства.
— Старику шестьдесят лет, куда ж его к дьяволу на рога… — Иван Николаевич отошел к двери, оттуда обернулся к Борденкову, договорил: — За это судить надо!.. — И хлопнул дверью.
Борденков уехал. Когда замолкло жужжание мотоцикла, Коровин сел дописывать начатую накануне статью о градостроительстве, чтобы не думать про Игарку. Но не писалось. Он поминутно откидывался на спинку стула и задумывался об Игарке, о вечной мерзлоте.
«Сколько же у нас земли под мерзлотой… Много, много… Половина нашего государства. Речки и озера промерзают до дна, зимой ни капли воды, колют лед — и прямо в котлы, в самовары. А придет время и скоро, когда будем строить по-новому, с водопроводами…»
В полдень пришла телеграмма от Борденкова:
«Случае несогласия быть главным инженером телеграфируйте согласие заведовать станцией изучения вечной мерзлоты».
Писать Коровину стало еще трудней, точно вместе с телеграммой в дом залетел ветерок и старательно выдувает из головы мысли о градоустройстве.
Под вечер пришла вторая телеграмма:
«Приглашаем сына лесозаготовки».
Николай Иванович бросил недописанную статью под стол в корзину. «Вот и хорошо, правильно! О градоустройстве напишет Решетников. У него большая семья, ему нужны деньги, у него нет имени. Тогда у него будет имя».
Коровин отыскал дневники тех лет, когда работал в Забайкалье, и начал писать о вечной мерзлоте. «Напишу и пошлю в Игарку вместо себя. Пускай не обижаются». Вечером показал телеграмму сыну:
— И тебя зовут, а?
— Не поймают… — Сын разорвал ее. — Я им нужен, как июльский снег. Из-за тебя зовут. Видны ниточки-то, белые… Я — лесовод и лесоизводом не буду!
На рассвете постучали Коровину в окно. Он обозлился.
— Чего беспокоите в такую рань? Нет вам дня?!
— Не имеем права задерживать: молния.
«Просим консультантом на одно лето. В ноябре гарантируем возврат Москву», —
Николай Иванович оделся и пошел той дорогой, которой унесли покойницу жену. Дорога то взбегала на лесистые холмы, то падала в низменные луговинки. Это была старая запущенная дорога — кладбищенская, как называли ее. По житейским делам ездили новой, более короткой, а покойников почему-то всегда уносили по этой. На ней давно уже сровнялись все колеи и ухабы; деревья и кусты, искалеченные телегами, поправились. Пышно разрослись по дороге цветы и травы. Коровин нарвал на той дороге горсть цветов и положил на могилу жены.
«Лежишь… — мысленно сказал он. — А меня, знаешь, зовут… В Игарку, знаешь? Сам я, того… и не подумал бы. А вот нашли, приехали. И что может Коровин? Ничего не может, надо слушаться. Жизнь позвала, надо слушаться. Ну, лежи — и не сердись на меня, а я поеду, поживу еще маленько. Лежать ведь долго, а жить мало».
Он поклонился могиле и повернул обратно на кладбищенскую дорогу. Дома взял листок бумаги и начал перемножать 80×240×3, решил вычислить, сколько потратил силы на переходы по лестницам за три года работы в Комиссариате коммунального хозяйства. Работал он на четвертом этаже, куда было восемьдесят ступенек, каждый год, приблизительно двести сорок дней. Если считать на день по одному подъему и спуску, за три года он одолел 57 000 ступенек вверх и столько же вниз.
«Экая ушла силища!» — Коровин постучал в перегородку к детям.
— Агния, Агнюша!
Она прибежала, простоволосая, с зеркалом в руках. В голосе Коровина было такое нетерпение, что она забыла поставить зеркало.
— Что случилось?
— Собери мой чемодан!
— Какой?
— Самый большой. Еду в Игарку.
— В Игар-арку? — Она от удивления заикнулась, у нее дрогнули руки, зеркало упало. Отражение смуглолицей женщины с распущенными волосами разбилось вдребезги.
— Папа, подожди уходить! — сказал сын после ужина, сказал сухо, строго, как старший провинившемуся младшему.
— Слушаюсь… — Коровин поправил очки, приосанился. — Догадываюсь… Ну, говори!
— Чего тебе ни хватает? Что ты ищешь? — Говорил сын не торопись, с паузами, ожидал, что отец ответит. — Обидели на службе? Не ценят? Не внимательны дома, вот мы?
Отец молча ловил бабочек, которые залетали в дом с улицы на огонь лампы. Он отпускал бабочек обратно за окно, а они снова и снова летели на огонь.
— Туда, кажется, даже преступников не ссылают. А ты… Понятно, когда это делает молодежь, крепыши, охотники, таежники. Но ты… — Сын умолк; он мог бы сказать и еще много, но испугался, что наговорит обидного, непочтительного, несыновнего.
— Можно отвечать? — спросил Коровин. — И на службе ценят. Вот отпуск дали без единого звука. И вы, знаю, любите, бережете. А я все-таки уезжаю. Со стороны глядеть — странно. Живет человек, как у Христа за пазухой; стул ему подают, постель застилают, на ступеньке, на ухабинке сын подхватывает под руку, и даже внучка, шестилетняя внучка, так и дрожит над дедушкой: «Тебе не холодно? Дай помогу взойти на крылечко». Не жизнь, а рай. Мечта недостижимая. Но человек, счастливец этот самый, бежит из рая в тундру, в холод, на вечную мерзлоту. Потому что создали ему стариковский рай, а сам-то он не старик. И получилось: рай, забота, а ему это — покойницкий саван, вечное напоминание: «Ты скоро умрешь. Ты старенький, хиленький». Неправильно, сынок, любите, глупо бережете и цените. Я от вашей любви скорей сдохну. Вот посадили на два месяца в отпуск. Радуются, гордятся: «Какие мы хорошие, правильные, как старичка-то устроили». А что, если старичок от тоски, от безделья повесится? А? Что ты скажешь? Глупый старичок, тронулся? Нет, сынок, нет. Убили старичка вниманьем, заботой убили. Знаешь, всего надо в меру. В меру работы, в меру любви и заботы. Живое любит меру. Меру, сынок, нарушили. Мне вот исправлять приходится, в Игарку ехать.
— Какую же меру?.. Это же искрение… — сказал сын.
— Знаю. И на работе искренне, от всей души. Я за это не упрекаю. Я за другое: в старички записать поторопились. Это, знаешь, обидно. Это, знаешь, преступленье.
Сын пообещал изменить свое отношение. Коровин на это сказал:
— Тогда и говорить не о чем. Здоровый и не старый человек, строитель, мерзлотник едет в Игарку — естественно и нормально! Больше того, ему полагается быть в Игарке, это его гражданский долг. Отказаться — равно, что дезертировать.
XIV
Николай Иванович Коровин был еще под Москвой в колхозе «Факел революции» и обсуждал с Агнией Михайловной, что взять ему в дорогу, а в Игарке уже знали, что едет какой-то знаменитый Коровин. Борденков прислал молнию: «Нашел, везу Коровина». Радист, который принимал ее, почувствовал то ликование, с каким писал Борденков «нашел, везу», и, передавая молнию, спросил, кто такой Коровин.
Василий рассказал, как добывал он с Коровиным воду из мерзлотных бугров. Рассказывал он в конторе, при людях, и по Игарке пошло: «Едет Коровин. Скоро заживем». Из Коровина сделали профессора и чародея. Ждали его и радовались: «Приедет, избавит», у каждого было какое-нибудь свое неудобство. Землекопам было ненавистно долбить зимой и летом, особенно летом, мерзлую землю. Хозяйки мучились с водой: оказалось, что колодцы в Игарке невозможны, каждую каплю воды приходилось поднимать в гору с Енисея, и у водоносок ломило плечи от коромысел.
Вслед за печками начали шалить дома и бараки; строили их по всем правилам, стоять бы им лет пятнадцать — двадцать без ремонта, а они выстояли год и пошли гулять: один угол тонет в землю, другой лезет вверх, двери и окна перекосились, не откроешь.
Первым загулял барак, в котором жила Авдонина артель. Сначала, недели две, все шуршала на потолке земля и осыпались за обшивкой опилки.
«Мыши завелись, — думал Авдоня. — Эка тварь… Мы в шубах, в валенках и то иной раз замерзаем, а они в чем мать родила живут, и хоть бы что».
Шуршание день ото дня усиливалось, и Авдоня размышлял про мышей: «Плодушшие, знать, за один год развелось сколько, день и ночь ворохобятся». Потом к шороху прибавился скрип, а еще погодя немного — плач. Авдоня осматривал и подправлял пилы, все прочие спали. И долго были привычные звуки: шорох и скрип на потолке, звон пил под напильником да храп спящих, — как вдруг кто-то заплакал.