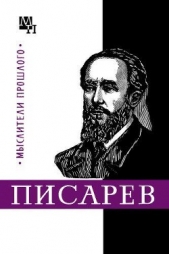Литератор Писарев

Литератор Писарев читать книгу онлайн
Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вот что произошло в действительности.
Взяв у Чернышевского означенный конверт, наш знакомец Алексей Федорович Сорокин тотчас покинул равелин и чуть ли не рысцой проследовал в свою канцелярию. Там он надписал на конверте число и час (было два пополудни) и вручил его дежурному плац-адъютанту с приказом немедля доставить в Третье отделение, в собственные руки генералу Потапову. Адъютант вскочил в дрожки, стоявшие, как всегда, наготове во дворе комендантского дома, и укатил. Алексей же Федорович, посвистывая, поднялся на второй этаж, в свою квартиру, чтобы перекусить, так как, в полном соответствии с заветом английского адмирала Нельсона, он исполнил свой долг, а остальное его не касалось.
Дальнейший маршрут записки вычислить не затруднительно: Потапов передал ее Долгорукову, тот — императору Александру II (неизвестно только, кто вскрыл конверт; скорее всего — Долгоруков, но в присутствии и по указанию его величества); император повелел оставить ее без последствий и приобщить к следственному делу; Долгоруков вернул записку Потапову; тот на очередном заседании комиссии познакомил с ней Голицына; и, наконец, этот клочок грубой бумаги, захватанный пальцами стольких начальников, поступил в распоряжение делопроизводителя Волянского, который витым красным шнурком подшил последнюю надежду Чернышевского к толстенной кипе доносов и протоколов (а конверт, по свойственной ему небрежности, потерял).
Но Чернышевский это предвидел. И еще прежде, чем вызвать коменданта (то есть около часу пополудни), заготовил копию своей записки. Она ведь была короткая и содержала, в сущности, только просьбу поговорить с ним. Он хотел напомнить Суворову о себе и подать ему формальный повод вступиться. Кое-кто из офицеров, служивших в крепости, знал, что светлейший к этому узнику и к молодому его соседу по равелину благоволит. Были там и такие офицеры, которые читали Чернышевского в «Современнике»; и такие, в тайные обязанности которых входило докладывать генерал-губернатору обо всем, что в крепости делается; и немало таких, что ненавидели Сорокина. Короче говоря, Суворов прочел послание Чернышевского вечером того же шестого февраля.
Он выждал две недели. Сложность его положения мы уже обрисовали. Усугублялась она тем, что государь — судьба записки была Суворову понятна, — государь почти наверное принял на свой счет презрительные шпильки, подпущенные Чернышевским. Помочь этому самоубийце было невозможно. И никак нельзя было признаться, что письмо его получено. Но и спускать своему подчиненному подобную наглость генерал-губернатор не собирался. Поэтому двадцатого февраля Сорокин был вызван к нему на Большую Морскую для объяснений, а двадцать первого имел удовольствие прочесть нижеследующий текст:
«Секретно.
Милостивый государь, Алексей Федорович.
До сведения моего дошло, что содержащийся в Алексеевском равелине здешней крепости литератор Чернышевский написал на мое имя письмо, которое, как Ваше превосходительство объявили мне при личном свидании со мною, с Вашего разрешения было запечатано, для отправления по принадлежности. Между тем означенного письма я не получил по настоящее время, и оно, как ныне сделалось мне известным, передано в Следственную комиссию, Высочайше утвержденную под председательством статс-секретаря князя Голицына.
Считаю долгом заявить Вашему превосходительству, что адресуемые на мое имя письма я обыкновенно распечатываю и прочитываю сам и никому еще не давал права вскрывать и читать подобные письма прежде меня; поэтому и письмо литератора Чернышевского следовало доставить ко мне нераспечатанным.
С.-Петербургская крепость, находящаяся в губернии и столице, высочайше вверенных моему управлению, состоит и в моем ведении, как здешнего генерал-губернатора; посему, если Ваше превосходительство имеете особую инструкцию, на основании которой письма, адресованные на имя князя Суворова, от лиц, содержащихся в С.-Петербургской крепости, должны быть передаваемы не мне, а кому-либо другому, в таком случае Вам следовало, прежде чем разрешить г. Чернышевскому писать ко мне, довести о таком намерении его до моего сведения, и тогда я испросил бы предварительно у Государя Императора разрешение, могу ли принять письмо от этого арестованного. Если бы Высочайшего разрешения на это не последовало, в таком случае литератору Чернышевскому не представлялось бы и повода писать вышеупомянутое письмо. Дозволять же ему писать ко мне, не предваривши, что письмо его не может быть доставлено по адресу, по моему убеждению значит злоупотреблять моим именем, потому что Чернышевский, получивши такое предупреждение, без сомнения, отказался бы от намерения обращаться ко мне с письмом.
В заключение покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить меня, на каком основании означенное письмо литератора Чернышевского не было доставлено ко мне, а препровождено в Следственную комиссию.
Само собою разумеется, что я ни в каком случае не счел бы себя вправе прочесть или даже распечатать письмо Чернышевского без Высочайшего соизволения, ибо этот арестованный не состоит в моей зависимости.
Примите, Ваше превосходительство, уверение в совершенном почтении и преданности.
Подписал
Согласитесь, что коменданту досталось отведать невкусного кушанья, даже несмотря на то, что письмоводитель Четырин, составлявший этот документ, приложил все силы, чтобы передать ярость генерал-губернатора самыми тусклыми фиоритурами бюрократической речи. Светлейший воспитывался в иезуитском пансионе в Швейцарии, потом слушал лекции в Сорбонне, а завершил образование в Геттингенском университете, так что владел в совершенстве разными языками (только жаль, по-итальянски не с кем было в Петербурге после ареста Серно-Соловьевича поболтать), но слог российских канцелярий вызывал у него мурашки по всему телу. А Четырин, из военных писарей, был, наоборот, великий дока по части придаточных предложений и дослужился уже до потомственного дворянства благодаря искусству наводить на любую бумагу официальный лоск, ловко вклеивая в самых неожиданных местах «ибо» и «посему».
Однако Сорокин не смутился нисколько. Ведь и у него был письмоводитель (хоть и не такой замечательный). И, что гораздо важнее, у него был добрый друг и руководитель по имени Александр Львович Потапов, который ни за что не дал бы в обиду человека, верно понимающего, в чем состоит его долг. Поэтому генерал-губернатору пришлось удовольствоваться, вместо ответа по существу, прехладнокровным извещением, что Алексеевский равелин находится в ведении Третьего отделения, что письма лиц, заключенных в равелине, всегда передавались секретно в Третье отделение и что, наконец, «на том же основании было поступлено и с письмом содержащегося в равелине Чернышевского, адресованным Вашей светлости».
Это только говорится: пришлось удовольствоваться. Если бы тот же Сорокин в один прекрасный день вздумал вдруг вместо «ваша светлость» сказать ему: «господин Суворов» или даже просто: «милейший», — и то, наверное, Александр Аркадьевич не изумился бы сильней. Добрую четверть часа, сжав кулаками виски, разглядывал он подпись Сорокина и громко, задумчиво, нараспев бранился кавалерийскими словами, — и было от чего! С ним обошлись бесцеремонней, чем с любым из самых назойливых родственников самого незначительного арестанта. С ним — и при этой тошнотворной, обжигающей догадке Александр Аркадьевич точно прозрел — обошлись как с полицейским агентом, услуги которого больше не нужны! Именно, именно как с «милейшим господином»! Мол, по трудам и честь. Что прошлым летом обратил внимание государя на предложения бывшего корнета Костомарова, коими в Отделении тогда по ошибке пренебрегли, — похвально! Что в начале нынешнего года через сыщика Путилина возобновил переговоры с Костомаровым и окончательно склонил его к новым ревелациям, — спасибо! До двенадцатого января без князя Суворова — ни шагу: ведь юный шарлатан соглашался иметь дело только с ним, а Третьему отделению, видите ли, не доверял: «Не решусь, — писал, — опозорить шпионством свое честное имя». Что же, и это превосходно, повидайтесь с ним поскорей, ваша светлость, уверьте, что мы согласны на все, что честь его в безопасности, лишь бы только он не тянул с разоблачениями. Спешите, ваша светлость, он уже привезен из Москвы и помещен в равелине — да, в равелине, но ведь для князя Суворова не существует запертых дверей! Но уж коли вы оказались таким старозаветным болваном, что не решились дать требуемых обещаний и ежели дорожите вашим словом и именем больше, чем интересами следствия, — тогда ступайте прочь, теперь обойдемся и без вас, генерал Потапов сам найдет средство успокоить самолюбие молодого человека, который только всего-то и желает, чтобы его участие в деле было скрыто.