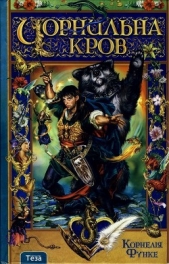Потерянный кров

Потерянный кров читать книгу онлайн
Йонас Авижюс — один из ведущих писателей Литвы. Читатели знают его творчество по многим книгам, изданным в переводе на русский язык. В издательстве «Советский писатель» выходили книги «Река и берега» (1960), «Деревня на перепутье» (1966), «Потерянный кров» (1974).
«Потерянный кров» — роман о судьбах народных, о том, как литовский народ принял советскую власть и как он отстаивал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны и фашистской оккупации. Автор показывает крах позиции буржуазного национализма, крах философии индивидуализма.
С большой любовью изображены в романе подлинные герои, советские патриоты.
Роман «Потерянный кров» удостоен Ленинской премии 1976 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты не такая, как другие кулачки, — слышит она его шепот.
— Не ругайся.
Его лицо близко-близко. Ночь изменила черты до неузнаваемости. Каменное плечо теснит плечо Аквиле. Надо встать и уйти, но она не может двинуться с места.
— Не ругайся, — слабо повторила она и подняла руки, чтоб оттолкнуть его.
Но его руки тоже взлетают. Тусклый небосвод заслоняет что-то темное. Прохладное, шершавое, чужое лицо, губы, ищущие губ. Нашли! И отпрянули, словно попробовав яда. Потом прорвались слова. Слишком громкие для ночи и неожиданно злые:
— С ума мы, что ли…
Он поднялся со ступенек и ушел. Шумно, торопливо, словно убегал от лая разбуженного пса.
— Тсс, Рыжик, тсс, — вполголоса увещевала она. — Успокойся. Он совсем не чужой человек, хоть и кажется таким. — И, откинув голову, улыбнулась холодному мерцанию звезд, все еще чувствуя на себе тяжелые его руки и жаркие губы на своих губах.
Уткнулась мужу в спину, словно это самое лучшее место, чтоб спрятаться от прошлого. Зачем воспоминания, боже мой, зачем воспоминания! Красивая была легенда, но такая зыбкая. Хрусталь сказки пошел трещинами еще до того, как Гульбинасов увезли. Но она еще пыталась подклеивать отлетающие осколки, — он ведь был рядом. Ах, опять! Боже мой, к чему этот вчерашний день! К чему тот, что обещал обнести на руках вокруг света, и другой, под стать ему, возомнивший себя Христом-праведником? Жизнь не мечта, не фантазия, она — камень, который надо катить в гору, да еще осмотрительно, а то выскользнет из рук и придавит.
Утром Аквиле проснулась со свежей головой. Ночные мысли казались бредом больного, — спал жар, и они исчезли. Слабовата, правда, немножко, но организм ликует, справившись с болезнью. Аквиле накрывает Лаурукаса, который сбросил одеяльце, берет ведра и идет в хлев.
— И-эх, надумала же, — ворчит Кяршис. — Скотину я сам покормлю. Иди лучше завтрак приготовь.
— Не бойся, будет и завтрак.
В теплом хлеву уютно, славно. Она бросает овцам охапку сена («Мои овечки…»), доит коров, приносит им по корзине свеклы («Мои коровушки…»), выливает борову ведро пойла («Моя свинка…»). Она ходит из хлева на сеновал, в амбар и обратно, а за ней тянется невидимая нить, связывающая ее с вещами, которых она касается то рукой, то взглядом. Словно сливается с ними, сама овеществляется, и все, что нельзя тронуть рукой, все нематериальное не вызывает теперь у нее никаких чувств. Грезы отступили перед мерой муки, корзиной свеклы, мятным шорохом сена. Душа полна коровами, которые должны давать побольше молока, свиньями, которых надо получше откормить, хозяйственными постройками, в которых станет тесно, если после войны дела примут хороший оборот.
— Завтра придет Культя крышу сеновала перекрывать, — говорит через неделю Кяршис.
Почему Черная Культя должен отрабатывать за чужую избу? Но Аквиле не говорит ни слова.
— Да, сеновал надо бы перекрыть, пока не начался сенокос, — соглашается она.
Культя приковылял, неся под мышкой доску, чтоб выравнивать солому. Веселый, языкастый. До обеда вдвоем с Кяршисом они сдирали гнилую солому с крыши. Трещат ломающиеся жерди, оба чихают. В густом облаке пыли почти не видно мужиков.
— Обед на столе! — кричит Аквиле, задрав голову.
Они не слышат, хоть работают невысоко, на нижней решетине: заговорились.
— Умеешь жить как черт, умеешь жить, Пеликсас, — разглагольствует Культя. — Даже тот парень, который свил из половы веревку и дал брату, чтоб тот повесился, а ему все хозяйство досталось, даже тот тебя бы не переплюнул.
— Завидки берут? — недовольно ворчит Кяршис.
— Что ты, Пеликсас! — Культя искренне удивлен. — Как можно завидовать человеку в несчастье, чтоб его сквозняк.
— И-эх, будет тебе глупости пороть! Какое еще несчастье? Чего пристал? — злится Кяршис — ему с самого утра не дает покоя острый язычок Путримаса.
Культя отвечает не сразу. Запрокинул голову, смотрит вверх. А там все нарастает гул моторов. Самолеты! Не низко, но под облаками, хорошо виден их ладный строй.
— С востока, — говорит он. — Скоро услышим барабанный бой. Ишь расхрабрились после Сталинграда! Уже и днем германца навещают…
Кяршис тоже поднимает голову. Серые облака ползут по небу. То тут, то там — голубой клочок. К дождю.
— Не написано, что русские, — наконец говорит он, все еще глядя вверх. — Черные, быстроходные. Никак английские!
— Англичане все еще из воды не вылезут, чтоб им челюсти свело! — Культя подтягивает спадающие штаны, хитро улыбается. — Не придут твои англичане, далеко им. Дорогого соседушки дождемся. Заберут твои гектары в колхоз, уведут савраса в общую конюшню, поломают избу — там все в куче живут, — и лопнет твое сердечко от боли. Какая тебе еще беда нужна, чтоб тебя сквозняк?
— И-эх! Чтоб у тебя язык отсох! — Кяршис ухватился руками за пук соломы, потянул, вот-вот всю кровлю сдерет. Схватил другой, третий. Стук, треск, летит наземь гнилая солома, пыль стоит столбом.
А Черная Культя гнет свое. Теперь с другой стороны подъезжает. Эх, люди вы, людишки… Сами не знаете, чего вам надо… Когда темный человек ошибается, еще туда-сюда, а вот когда ученый среди бела дня своих ворот не находит… Умные, одно слово — интеллигенты. Когда немцы пришли, многие из них кричали «ура», думали — свободу несут, а эти освободители, глянь, их самих в трудовые лагеря загнали. Не понравилось немцам, что подбивают молодежь не поддаваться Кубилюнасу и не идти добровольцами на фронт. Со злости и литовские университеты закрыли. Мол, как вы нам, так и мы вам. Не сладко, видать, Гитлеру на востоке, раз литовские легионы понадобились, чтоб его сквозняк! Но и у наших парней губа не дура — не трогаются со своих хуторов, и что ты им сделаешь? А зачем трудящемуся идти против своих, если даже из чиновников многие бунтуют против самоуправления!
Кяршис злобно сопит, но не говорит ни слова. Тоже мудрец выискался. Политик! Большое дело эти университеты, будто книгами человек сыт. И-эх, и благодать была бы, если б немцы занимались одними книжками и деревню не трогали, но где уж там, бедный ты человек: нынче опять поставки увеличили…
— Мужики-и-и, обе-е-ед!
За обедом тоже толкуют о том о сем. Культя пробует даже подольститься к хозяевам, но Кяршис мрачен, как осеннее небо, Аквиле тоже задумалась, смотрит в тарелку…
Вечером, когда Культя ушел домой, Кяршис говорит жене:
— Ну и злыдень же этот Путримас! Сам не умеет жить и другим завидует.
Аквиле молчит. Час, всего лишь час назад она встретила Матаса Пуплесиса, а от его насмешки все еще горят уши. Не надо было говорить про поместье, но она, чтоб сказать ласковое слово, возьми и ляпни: «Так вы остались у господ Дизе на второй год?» — «Да, тут-то хоть знаешь, что в фатерланд не увезут». Слово за слово — дошли до Черной Культи, коснулись избы Нямунисов. Неприятная тема, но Пуплесис на то и создан, чтоб плевать людям в душу. «С Нямунисами-то некрасиво получилось: стерли с земли, словно и не жили такие люди в Лауксодисе. Правда, вам с мужем это только на пользу, госпожа Кяршене…»
«Только на пользу! Вам только на пользу, госпожа Кяршене». Аквиле даже расплакалась от досады по пути домой.
— Злится, что мы аренду за избу берем. А разве не причитается?
Аквиле моет на кухне посуду. На стене мерцает керосиновая лампа с закоптелым стеклом. За печью трещит сверчок. К окну приникло мрачное лицо сгущающихся сумерек. Снова нахлынула тоска, снова гложет обида.
— Причитается? А почему причитается? — Ее разбирает злость. Она хочет поколебать этот уверенный в своей правоте голос, идущий от двери. — Скажешь, мы строили избу Нямунисов?
Он удивлен.
— Юлите мы приютили, — говорит он, чуточку подумав. — Откуда знать, может, придется весь век с ней возиться. Опекуны мы, должны глядеть за ее имуществом, пока возраст не подойдет. Если не поправится, то изба и постройки и земля насовсем… ага… четыре гектара…
— Насовсем, говоришь?
— И-эх, а как же иначе, — ведь родни-то другой нет. Если хочешь знать, это ведь наша земля, ага, — после худого года Нямунисы у нас купили. Кяршисов это земля, вот что… — гнет он свое, не поняв ее насмешки. — Пока война, с этого клочка не ахти что. Поставки, обозная повинность. Одной лошадью не управишься, придется вторую у соседей занимать. Зато когда все успокоится, мы уж свое возьмем.