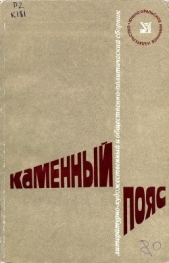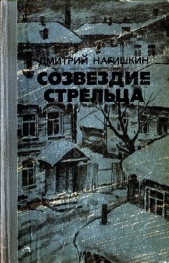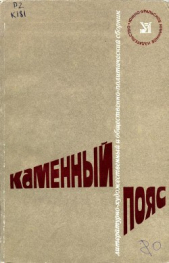Рабочее созвездие

Рабочее созвездие читать книгу онлайн
Художественно-публицистический сборник.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Левка выпростал из ячеек зауголистый кукиш кулька и подал матери. Устинья вытерла о фартук руки, сглотнула слюнки, развернула раструб и… прикусила губу. То ли чтобы не расхохотаться тоже, то ли — не расплакаться: чеснок. Крупный, свежий, фасонистый, но — чеснок.
— Самый дефицит у нас на Севере был.
Дефициту этого у нее теперь своего четыре сквозных гряды на продажу росло да для себя грядка.
— У-у, сорт, видать, шибко хороший. А что, слышь, если я его на племя пущу?
— Ешь, не выдумывай, не климат ему здесь, у среднеазиатских республиканцев Надюха на базаре покупала. Рубь штучка, два рубля кучка. Аж на тридцатку тут.
— Да, да, да, — пересилив себя, поддакивала сыну Устинья, — дорожает сельский продукт на базарах. И еще будет дорожать: сеющих год от году меньше, пожинающих — больше. Ладно, соловья баснями не кормят, пошли в дом.
— А я не соловей, мать, я, мать, голубь.
— Бумажный. Куда махнут, туда и полетел. Карточку хоть привез?
— Какую? А-а, фотку Надюхину. Не. Забыл.
Левка разлетелся прямиком в горницу, но через полустертую грань между городом и деревней переступить не посмел и, распяв себя на косяках, зарился с порожка на палас во весь пол, на трехстворчатый платяной шкаф, цветной телевизор, сервант со всякими сервизами — непонятно, зачем они ей в Больших Дворах, — на круглый допотопный стол под гарусной скатертью, на такую же древнюю деревянную кровать под иранским покрывалом, с кружевным подзором донизу и с пирамидой подушек чуть ли не до потолка. И все простенки в дешевеньких паспарту.
— И как тебе мой новый терем? Глянется?
— Н-ну, спрашиваешь. Исторический музей с картинной галереей. И во что обошлась эта комсомольская стройка? Или секрет?
— Ой, да еще и какой секрет — даром почти. Лес, кирпич и кровлю колхоз выделил безвозмездно как ветерану. И бог помощь собирала — никто рубля за работу не взял. Так что ты шибко не казнись, что ни сам не приехал матери пособить, ни копейку заместо себя не послал. Мать всего и потратилась — коромысло водки успела поставила добрых людей угостить.
Левка мотнул головой, вытряхнув из ушей материнский упрек, и принялся переводить деревенскую единицу измерения жидких тел в городскую:
— Коромысло — это два ведра значит. Два ведра — двадцать литров? Или сколько?
— Да два ящика, сколько. Ящиками да ведрами уж начинали пить, садись ужинать, не майся.
Левка утянул животик и полез за тесный стол, но, не обнаружив на нем вдруг ни «пузыря», ни стопок, застопорил:
— Стоп, стоп, стоп, а со свиданием где? Ну-ка, пошарь под лавкой.
— А все, сынок, текла под лавками река, да обмелела. Да какой же это иконе молиться — до светлого дня дожили. У вас в городе — не знаю, а у нас рай наступил, совсем эту монополию прикрыли. Так ты веришь или нет, заядлые употребители и часы позабрасывали, а то ведь на оберучь их носили: по одним ждут, скоро ли два, по другим спотыкаются — успеть бы до семи. А теперь красота: ни ждать, ни догонять не надо, паши да паши. И зарабатывать, слышь ты, хорошо стали. А я тут ночью как-то раскинула своим темным умом — так мы ведь это, вдовые бабы, пьяную заразу развели, до войны не было ее. Мы, мы. Больше никто.
— Да ну, вы…
— А вот и не «ну». Вот, слышь, когда меня на пенсию провожали, председатель речь говорил и подсчитал, что я якобы за сорок лет по шес… Вру, не по шестнадцать, по сто шиисят тонн молока от каждой коровки надоила. В среднем, конечно. А вот кто бы занялся да подсчитал, сколько я чужим мужикам водки выпоила — и цистернов, поди, таких и нету. Поросеночка заколоть — пузырь. Сено вывезти — два да три. Дрова — те вовсе синим пламенем горят. Ночь ли, за полночь — шаришь под лавкой, потому что «магазин закрыт» не скажешь, запасай, когда открыт. А теперь красотища. Нету. И даже и не кукарекай. Ты зачем приехал? — застала она сына врасплох.
— Я? Я — ни за чем, я так.
— Ну, ты языком зубы не корчуй, так ты никогда не приезжал.
— Да… понимаешь… обмен квартиры наклевывается, Надькину полуторку на двухкомнатную с левой доплатой…
— Ну…
— Ну и три тысячи просит.
— Сколько? Да что уж там за вокзал за такой… Не-е. Сотни три еще наскребла бы, а тысячи мои туда ушли, — кивнула на горницу. — Теперь уж до осени ждите, может, наторгую. Картошка нарастет, лук. Скотинешку лишнюю сдам, успеваемость уж не та ходить за ней…
— До какой до осени, ты что, мать, крайний срок — понедельник. Не этот — следующий. Мам! А если дом толкнуть… А? А жить — к нам. Места хватит. Ни дров, ни сена не надо.
— К вам!.. Ты со своей Надюхой поночевал да опять скочевал, а мать потом в какие Палестины?
— Не, не, с этой мы в законном браке. Вот, — достал паспорт.
— Штампы в паспортах нынче, сынок, узелки двойной петлей вязаные: за любой кончик дерни — и нет его. Да твои-то длинные рубли куда делись, хвалился, по скольку зашибаешь.
— Куда… На юг съездили, свадьбу в ресторане справили.
— А-а, ну вот кто у вас в ресторане гулял на свадьбе, у тех и займуйте. Как открытку бросить, мать-старуху пригласить, так запамятовали, а как «дай», так вспомнили.
— Но ты ж все равно не смогла бы приехать за такие версты.
— А вдовствовать совсем безмужно, чтобы не уронить себя или чтобы отчим у сыночка не завелся ненароком, я смогла? Тянуться на тебя всю жизнь я смогла? Говори, паразит, смогла? Не смогла бы и не поехала, только открытка ваша пятикопеечная мне дороже бы этих тысяч стоила. И кончен базар, пошла я управляться, табун гонят. И даже и не жди, я долго. А дрыхнуть захочешь — постель тебе в чулане.
— Дернуло меня ляпнуть про эту свадьбу, — каялся Левка, пробираясь по незнакомым сеням в чулан. — Да, теперь ждать нечего.
И на какое ребро упал, на том и проснулся. На стекле крохотного оконца желтопузая муха греется, вся насквозь светясь от удовольствия и суча лапками.
— Балдеешь, тварь насекомая. Наела эпидемию тут в деревне, и голова ни о чем не болит.
Не болела голова и у Левки впервые за столько лет. И поэтому он долго не мог прийти в себя.
— Родная мать не угостила, а… Текла, говорит, река, да обмелела. Вот карга старая. Дите от груди — и то сыспотиха отнимают, а тут враз. Так дите сколько ее сосет? Год? Пусть два. А мы — десятилетиями. Ох уж, наверно, и посучили ногами некоторые местные мужички… Как эта муха. Да есть у нее в заначке, она без этого запасу сроду не жила. Мать! А, мать…
Никого и тишина, как мор прошел. Только муха припала к стеклу и насторожилась, готовая оттолкнуться и улететь. Ворохнулся с боку на бок — на спинке стула его костюм подглаженный висит, на сиденье — записка белеет.
— У, даже две. — Повернул первую к свету. — «Выруку, погорячилась я вечор. А пишу, чтобы не будить, соседка попросила подменить ее, на станцию к поезду дочь встречать поедут они на своей, с имя как раз и ты уедешь и объявление там повесишь». — Схватил вторую бумажку. — «Объявление. В Больших Дворах спешно продается совсем новый дом испот топора за 3 тыс и не меньше. Спрашивать Устинью Осиповну. Пенсионерку. Ращет сразу».
Объявление сорвали в тот же день, и Устинье Осиповне тоже ничего не оставалось, как сорваться из своих Больших Дворов, которые уместились теперь за пазушкой в бумажном свертке с тридцатью сотенными, но не как с тридцатью сребренниками, нет, хотя поначалу она и казнилась такой думой. Теперь — нет. И она спокойно шла по незнакомому городу в неизвестную жизнь. И сколько ей отпущено пребывать в ней, она не знала и знать не хотела. Она только знала, что она — мать, а дети на что будут способны — время покажет.
Время покажет.
Владимир Курносенко
САВОК
Рассказ
Позвонили из санавиации: Александр Акимыч — в Кунашакский район. Срочно. Или сами собирайтесь, или из ребят своих кого-нибудь. Лучше бы сами. Хирург в Кунашаке толковый, раз зовет — подступило. Ну, зовет, говорю, готовьте, значит, что у вас там — машину, вертолет. Перевязки закончу, к профессору зайду на счет статьи — и пожалте, могу служить. Говорю и чувствую, нехорошо: профессор, статья — вроде хвастаюсь, а все равно приятно. Попросил, чтобы подавали в перевязочную Быкова, а сам снова к телефону. Люська, говорю, как вы там? Меня в командировку, в Кунашак, дня на два. А она — езжай, все в порядке, Ленка сосет вовсю, тебе от нее привет, мы тебя ждать будем. Это тоже приятно. Приятно, когда ждут. Ладно, говорю, Генке я шишку привезу — пусть и он ждет. Генка — это мой старший. Сын. Потом позвонил еще в одно место. В командировку, говорю, посылают, если к вечеру раскидаю, — буду. Ладно, сказали, и жарко так в трубочку дохнули. Уф! Тазик горячей воды ниже пояса. Вообще-то ездить я люблю. Только так: портфель, деньги, сигареты — и один. Смотри в окошечко, успокаивайся, зависай. И вообще, мало ли что — поговорить, выпить, никто тебе ничего. Сам. Ладно… Сбегал в бухгалтерию, взял командировочные, там Ольга Лукьяновна, молодая еще, крепкая, пальцы в кольцах, посмеивается. Ну, ну, Александр Акимыч, ну, ну. Настроение, в общем, держится. В коридоре еще с главным врачом столкнулись, поздоровался, достойно так, не роняя, в полупоклон. Узнал, улыбнулся. Вообще-то он бульдог, хоть и интеллигентный на вид мужчина. Мертвая хватка. Схватит и по миллиметру в день — к горлу. Пока не задавит. И во всем: в карьере, женщинах, деньгах. Принцип. Недаром ему нашу больницу дали, областную, клиническую, самую-самую в городе-то. С профессором у них отношения сложные. Клиника и больница. Монтекки и Капулетти — вечная вражда. Ну и они — два медведя в смежных комнатах. Однако на шефа мне обижаться грех. Я его ставленник, его идея. Заведующие должны быть молодыми. А степени потом, категории по ходу. Наполеоновские генералы. Нас пока человек шесть — Витя Малков в кардиохирургии, Сережа в гастре и еще ребята, на вторых ролях, но вот-вот… Мне категорию уже дали, за год до срока, в знак, так сказать, поощрения, ну и кандидатскую помаленьку я с таким шефом сделаю. Сделаю, не беспокойтесь. Трудно? Ну что ж. А кому легко? Сами знаете, кому. На последней конференции главный хирург города, старпер этот Суркин, так и сказал: «Молодые асы облбольницы!» Приятно, конечно. Ну да все это так… второе. Главное — хорошо лечить. Раньше, помню, до ординатуры, когда в районе работал, у каждого больного сутки готов сидеть был — переживал. Все про него знал — мама, папа, теща, и все равно — помирали. Теперь, знаю: не в этом дело. Сделай — так, так, так. Максимум. И все будет. И без эмоций. И лиц не надо запоминать, понимаете? Я теперь, если, скажем, ребенок кричит, просто отключаюсь, не слышу. Тут уж так: или — или. Или лечить, или переживать. Ну впрочем, ладно, не в том сейчас дело. Перевязываю я Быкова. Помыл, посушил, ранка чистая, хорошая, хорошо, говорю, Быков! Улыбается. Привезите, говорит, мне Александр Акимыч, подарочек. Ладно, думаю, старый, может, и привезу. Это он о тоненьком катетере — мочу выводить. Его, Быкова, крепкие ребята в районе оперировали — простату выдрали вместе с задней стенкой пузыря. Теперь вот, кроме детского катетера, мочу никаким другим не выведешь. А не выведешь — в штаны стечет. Вообще-то Быков — не моя тема. У него пузырный свищ, а у меня кишечные. Но шеф сказал: возьми, мало ли что, пригодится, да и урологи рады были сбагрить, а они тоже меня выручают. Ну и взял. Случай, конечно, интересный, да и мужик хороший. Привезу, говорю, Быков, там, в районах, такое иногда бывает, чего и в Париже нет. Ага, засиял, привезите, руки забегали, пожалуйста, Александр Акимыч, за вас старуха моя свечку поставит. И заплакал… Ладно, еду. Позвал своих орлов. Ты, распоряжаюсь, Коля, Быкова на себя возьмешь, а ты, Володя, консультации. Завтра буду. Продержитесь, не впервой. Кивают. Что им остается? Три года в районах по распределению, теперь вернулись на голое место — за квартиру они черта прооперируют и кивать будут. Ладно, говорю, пошел к профессору. Черная дверь. Дерматин. Табличка. Гладышев. Сколько мне еще? — раз, два, три — минимум десять лет до такой. Ну, ничего. Вытерпим. Захожу. Там Фомин. Он по сосудам, доцент, про него Витя Малков говорит: талантливый дурак. Кроме Фомина, еще двое, ассистенты. Я громко: извините! А шеф глянул так, улыбнулся (он редко улыбается) и рукой тем — минуточку! Слушаю вас, Александр Акимыч, что случилось, Александр Акимыч. Объясняю Фомину и тем двум — извините, мол, но… Ничего, те улыбаются, ничего, понимаем, эксперимент, заведующие должны быть молодыми. Даже к окну отодвинулись, даже Фомин. Я говорю, Юрий Петрович, уезжаю в район, надо, перитонит, а насчет статьи, может, я потом, завтра, после оперативки? Качает головой — да, да, да… Морда умная, сильная, виски седые — приятно смотреть. Если свищ, говорит, везите сюда, место найдем. Надо набирать. И готовьтесь — я записал ваш доклад на хирургическое общество. Через месяц. Готовьтесь. Всего хорошего. До свидания. И руку подал. Фомин даже сморщился. А ведь я этому самому Фомину еще на четвертом курсе факультетскую хирургию сдавал. Он не помнит, а я-то знаю про себя. Тогда он тоже был вторым — у Костяного. Действовал у нас такой профессор, черная ему память. Пересаживал кожу своим дерматомом и повязку свою придумал — черепицей. Ее так и называли: «костяная». Две книги на этом написал. Бабник был страшный. Сестры при нем дежурить боялись. Потом уехал — что-то у него здесь сломалось. Но мужик был настырный. Прочитал как-то «Записки врача» Вересаева, и втемяшилось ему, что студенты кончают институт полными невеждами, что допускать их к больным нельзя, и решил он бороться с этим чем мог. Придет на занятия: «Ну а здесь что? А здесь? Вы так думаете? Интересно! Зайдете ко мне через три дня и сдадите эту тему. Что? Вы не согласны с правилами обучения в вузе? Пожалуйста, я доведу ваше заявление до сведения декана». В общем, ясно. На экзаменах нас спрашивали столицу Гонолулу и еще черт знает что. Ну и Фомин, номер второй, туда же… А я так не могу. Е с л и н а м е н я с м о т р я т к а к н а д у р а к а и л и м н е к а ж е т с я, ч т о с м о т р я т, я т а к и м с е б я и ч у в с т в у ю. И я не сказал. Даже повторить не смог: Гонолулу. А Фомин, номер второй, великодушничал: «Вы не бойтесь, за это я отметку не снижу. Просто хочется понять, до каких границ простирается ваше невежество!» В конце концов поставил мне трояк. Чуть я тогда со стипендии не полетел.