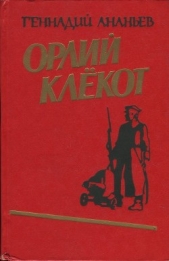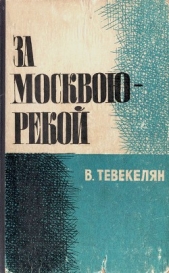Годы без войны. Том первый

Годы без войны. Том первый читать книгу онлайн
Роман Героя Социалистического Труда Анатолия Ананьева «Годы без войны» — эпически многоплановое полотно народной жизни. В центре внимания автора — важные философские, нравственные и социальные вопросы, тесно связанные с жизнью нашего общества.
Перед нами центральные герои двух книг романа — полковник в отставке Коростелев, ветеран партии Сухогрудов и его сын Дементий, молодой нефтяник, приехавший в Сибирь. Перед читателем проходит галерея образов наших современников, их внутренний мир, отношение к работе показаны цельно и емко, навсегда запечатлеваясь в памяти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Митя смотрел на бабушку и ничего не говорил; он так и не ответил ей, тронет еще или не тронет шкатулку; лишь утром, как будто похудевший после памятной для него и теперь той далекой летней ночи, подойдя к Антиповне и стоя перед ней с понуро опущенной головою, негромко произнес: «Не буду» — и потом, прижавшись к ее груди, терпеливо ждал, пока она гладила его светлые и редкие, словно выцветшие от летнего солнца волосы. Он не сказал бабушке, что почти не спал ночь, что, после того как она ушла от него, закрыв и унеся шкатулку, и он остался лежать на печи, каждый раз, как только смыкал глаза, ему виделась одна и та же страшная, повторяющаяся картина: будто отец, мать, дядя и дедушка, которых он знал лишь по фотографиям над комодом, как живые шагали к нему из непроглядной темноты, белые, и, чем ближе подходили, чем яснее он видел их лица, тем будто отчетливее нависали над ними огромные и еще более неестественно белесые, чем они были на самом деле, бабушкины пальцы; в какое-то мгновение отец, мать, дядя и дедушка — все вдруг оказывались в этих бабушкиных пальцах прижатые голова к голове и даже — не голова к голове, и будто это были уже не люди, а пожелтевшие от времени бумажки, и бабушка, потрясая ими перед глазами Мити, твердила, но не своим голосом, а будто раздававшимся на лесной поляне эхом: «Вот все, что осталось от них». Ему было жутко оттого, что люди превращались в бумажки. Он открывал глаза, и все исчезало; лишь прорисовывались подсвеченные косым оконным светом (на дворе было так лунно, что даже сквозь занавески, казалось, просачивался в избу белый и холодный свет летней ночи) темные, никогда не крашенные и не беленные доски потолка, и лишь слышно было, как где-то, будто за печью, особенно напористо скреблись в сухой бревенчатой стене мыши, пробиваясь к окованному оцинкованными листами бабушкиному хлебному ларю. Митя натягивал одеяло на голову; но сон и днем несколько раз вдруг как бы являлся ему, и тогда он совсем не по-детски, отупленно смотрел перед собой, будто вглядывался в неестественно белесые бабушкины пальцы и прислушивался к будто звучавшим за спиною словам: «Все, все, что осталось!..» Этот сон так врезался в память Мити, что временами, особенно после родительского дня, когда возвращались с кладбища и он видел, как бабушка, достав из комода шкатулку и пристроившись у окна, принималась перебирать похоронные (сам Митя, даже будучи уже школьником, старался не смотреть на шкатулку и меньше бывать возле красного и потертого бабушкиного комода), вдруг взглянув на бабушкины руки, улавливал на пальцах т о т с а м ы й запомнившийся ему неестественно белесый оттенок. Он знал, что люди умирают, что их хоронят и что никакого превращения людей в бумажки нет и не может быть, но в то же время знал и другое — что родным умершего вручают свидетельство о смерти, бумагу, документ, и что в конце концов от человека остается именно это — бумага, — и это придавало мучительным снам Мити странное и угнетающее правдоподобие. Он никогда никому не рассказывал о своих сновидениях: ни в детстве, ни тем более позднее, когда повзрослел, и Антиповна до конца дней так и оставалась в неведении, как, когда и какую тревогу внесла она в душу внука. У нее было свое неизживное материнское горе, и горе это так или иначе должно было затронуть холодною тенью внука; даже когда он, закончив училище, стал жить отдельно, в городе, и работать в типографии, ушедшее будто в прошлое детство время от времени пробуждалось в нем именно этим — с белесыми бабушкиными пальцами и шелестящими в них пожелтевшими бумажками — сном. Особенно сновидение начало вновь мучить Митю после того, как он вместе с Дорогомилиным ездил в Терентьевку хоронить бабушку; из всех вещей в доме он взял себе лишь деревянную шкатулку, добавив к четырем лежавшим в ней еще одно свидетельство о смерти.
XXVII
Митя не знал, когда и как бабушка вступила в секту; в детстве ему казалось, что она всегда, по крайней мере с того времени, как он начал понимать и помнить, ходила по понедельникам и четвергам на моления к Вахрушеву, где собиралось еще десятка полтора таких же, как и Антиповна, пожилых и носивших темные платки и темные и длинные юбки женщин; ему в те годы казалось, что так же, как бабушкин деревянный дом, в котором он жил, как все избы в деревне, палисадники, огороды, река за огородами, зеленая пойма и хлебные поля дальше, за поймой, по длинному и пологому, убегавшему к горизонту взгорью, как все вокруг: правление колхоза, школа, клуб, сельсоветовская изба, — издавна, неизменно и равно со всеми существовала в Терентьевке баптистская община; он думал, что жизнь всегда оставалась такой, какой он застал и увидел ее, и тем мучительнее и больнее было ему потом за себя, и за бабушку, и за всех тех, кто собирался на еженедельные бдения у старика Вахрушева. Митя не знал, да и мало кто теперь уже в Терентьевке помнил, как сосед Антиповны, заколотив досками крест-накрест окна и дверь своей избы, вместе с женой Ефросиньей Евдокимовной полуденным, обеденным часом покинул деревню, подавшись за длинным рублем в северные края; по размякшей от прошумевшего накануне дождя и черной среди кустившихся хлебов дороге ушли они, сгибаясь под тяжестью заплечных мешков, к степной (со взгорья хорошо, как на ладони видна была красная кирпичная водокачка) железнодорожной станции, и долго почти в центре деревни сиротливо стояла их обезлюдевшая изба; еще менее оставалось теперь в Терентьевке людей, кто помнил, как однажды и тоже по размякшей после грозы дороге, но поздно вечером, когда все вокруг было уже окутано густыми сумерками, вернулся в деревню старик Вахрушев один, без жены (Ефросинью Евдокимовну он похоронил там, на Севере), и, поклонившись родному порогу и поставив перед заколоченной дверью черный потертый чемодан, пришел к Антиповне и попросил топор... Может быть, если бы люди могли предугадывать события, они бы не разрешили вновь поселиться Вахрушеву в Терентьевке; но никто даже не подозревал, с ч е м вернулся в родную деревню бывший правленческий конюх, в свое время подпадавший под раскулачивание, но — кто об этом помнил? — раз не раскулачили тогда, значит, прав, значит, не было ничего; ну вернулся, ну так — куда же теперь деваться человеку? Не укоротили приусадебный участок, не обрезали огород, пусть пользуется; и он, старый, как будто немощный, с крупными и розовыми складками на щеках, не как прежде, а по-иному начал поглядывать на своих соседей-сельчан; на Оби, в Ярцеве, куда уезжал он за длинным рублем, надоумили его, как надо жить. И надоумил бывший земляк, в тридцатом высланный из Терентьевки вместе со всей семьею, Федор Филимонович Коровин. В Ярцеве, что особенно удивило и поразило Вахрушева, был у Коровина дом не хуже и не беднее, чем когда-то в Терентьевке: и скотина разная во дворе, и амбар полон хлеба, и даже лошаденка с бричкой для поездок по делам, богу и общине угодным, как выразился сам Федор Филимонович.
— Ан рубль-то длинный не здесь нынче, — сказал он Вахрушеву в первый же вечер, когда они встретились. Они сидели в избе возле затянутого белой марлей окна (была самая середина таежного комариного лета), и старик Вахрушев все не переставал удивляться достатку, в каком жил теперь изгнанный из деревни бывший его земляк. — Глуп и несведущ люд, — между тем продолжал Коровин, — знать не знает своей золотой жилы.
— О чем это ты, Федор Филимоныч?
— А о том, что и ты глуп и несведущ. Дома твой длинный рубль нынче, дома, а не здесь.
— Но ты?..
— Что я? Меня не равняй. Я — куда брошу взгляд, там и хлеб растет. Так-то. Да и то сказать, время было иное, и не своей волею здесь. А ты-то что? По избам теперь только сироты да вдовы, и не каши, а более душевного успокоения просят, к богу взоры обращены, а бог нашими устами глаголет, так чего же еще тебе надо?
— Что-то в толк не возьму, Филимоныч.
— Умом ты и прежде не отличался, знаю, но — не о том. Если хочешь, так слушай. Сколько в войну народу полегло? Не считал? Миллионы, и все больше наш, деревенский человек. А теперь прикинь, сколько сирот и вдов, сколько матерей... э-э, велико это женское страдальческое племя, велико и безбрежно, и ты только повернись к ним лицом, обратись с теплым словом, да не от себя, а от бога, и все они будут молиться на тебя.