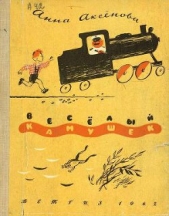Ардабиола
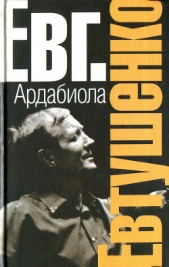
Ардабиола читать книгу онлайн
Джон Стейнбек, прочтя в 1964 году «Преждевременную автобиографию» Евтушенко, которая была издевательски раскритикована официальной советской критикой, сказал автору, что ему очень поправилась глава о похоронах Сталина, и шутливо предсказал Евтушенко, что в энциклопедиях XXI века его будут называть знаменитым романистом, который начинал в XX веке, как поэт. Первую прозу Евтушенко высоко оценил такой мастер, как Катаев. Роман «Ягодные места» в свое время мгновенно разошелся двухмиллионным тиражом в «Роман-газете». Повести «Ардабиола», «Мы стараемся сильнее» («We try harder») отдельно печатаются впервые. Оправдается ли предсказание Стейнбека?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но спиринские глаза смотрели уже в сторону Тиши, сверля его, как буравчики.
«Знат», — подумал Тиша.
— Залогины и людей иксплутируют, — стоял на своем Спирин.
— Это кого же? Все сами работают. Никого в найме нету, — пожал плечами Ерюгин.
— А друг друга они иксплутируют! Вот как! Иначе откуда у них трем лошадям да трем коровам взяться! — торжествующе крикнул Спирин.
«Не дают тебе покоя три лошади да три коровы», — подумал Тиша, но промолчал.
— Ты свою жену тоже иксплугируешь, когда она тебе латки на штаны ставит, — сказал Ерюгин.
— А самогонными делами рази Залогины не занимаются? — не унимался Спирин.
— Тогда у нас вся деревня — кулаки… — возразил Ерюгин.
Спирин понизил голос и вкрадчиво добавил:
— Окромя прочего, Залогины в долг дают, а потом трудом берут…
— Это как? — спросил Тиша, напрягаясь. Дело уже пахло мироедством.
— А так… Года три назад, в голодну зиму, одолжил мне старик Залогин мешок зерна, а потом летось встречат и смотрит. Особенно смотрит. «Чо, говорю, смотришь? Должок напоминашь?» — «Да ты не беспокойсь, — отвечат. — Покосите у меня с женой, и весь расчет».
— Ну, а ты?
— Чо я! Известно, покосил…
— А долг он тебе простил?
— Он-то простил, да я ему не простил… Рази в долг давать, а потом трудом брать это не иксплутация в наичистом виде? — Спирин схватил список, ткнул в него покалеченной пятерней, снова сверля Тишу глазками. — А вить их как раз двенадцать, Залогиных-то! Вот тебе и двенадцать кулацких душ! Тютелька в тютельку!
— Бога побойся. Трое ишо малолетки, — сказал Ерюгин.
— Яблочко от яблоньки недалеко падат. Кулацки малолетки завтра сами кулаки. Только у них нету ихнего завтра. А ты чо-то Бога часто поминашь, товарищ Ерюгин. Бога, как известно, не существует, и неча его пужаться. Я твои заслуги, само собой, уважаю, товарищ Ерюгин, но иногда диву даюсь — сколь в тебе ишо родимых пятен. Только старыми заслугами не проживешь. Надо новы заслуги перед советской властью заиметь, — угрожающе игранул голосом Спирин.
Потом Спирин зыркнул на Тишу и плесканул напоследок:
— Промежду прочим, в обчественном деле надо через личны отношения шагать, товарищ Тугих…
И Тиша, как ни перекореживалось все внутри, шагнул…
Пришли выборные мужики в избу Залогиных, с невеселой виноватостью растолковали Севастьяну Прокофьичу: так, мол, и так, времена ноне крутые, и хоть мы знаем, чо ты никакой не кулак, надо кому-нибудь кулаком сказаться, пострадать за общество, а поскольку ты самый зажиточный в деревне, не обессудь — тебя мы на эту жертву выбрали, а там, глядишь, времена переменятся, и ты возвернешься. Рванулись старшие сыновья Севастьяна Прокофьича к берданкам, но отец остановил их знаком руки: «Кровь только кровь порождат, а добра от нее ишо никому не было». Севастьян Прокофьич велел сыновьям телку забить, и три дня его изба была открыта для любого гостя, и вся деревня пила самогон, пела песни и плакала на проводах залогинской семьи.
Широк душой был Севастьян Прокофьич и, даже когда в избу приперся Спирин, бровью не повел — всем честь и место, только горьковато усмехнулся, когда спиринские глаза зашныряли по горнице, ощупывая на совесть рубленные стены, а особенно городской огромный комод, доставленный в свое время на карбасе из далеких краев. Не пришли только двое: Ерюгин, запивший вмертвую в своей холостяцкой развалюхе, и Тиша, ушедший от стыда перед Дашей в тайгу стрелять уток на озерах. И надо же было, чтобы Тиша вернулся из тайги не после, а как раз во время отплытия баржи с семьей Залогиных и еще раз увидел Дашу, только издали. Баржа пришла снизу и привезла оттуда на поселение в Тетеревку другую раскулаченную семью: их было человек пятнадцать. Первой по сходням сошла высокая, прямая старуха, держа перед собой икону. За ней шли парни и девки с узлами и мешками, в одном из мешков бултыхался визжащий поросенок. Следом двое мальчишек тащили, держа с двух сторон за ручки, весело сверкавший среди общей печали самовар. Последним сошел старик, ровесник Севастьяна Прокофьича, держа в одной руке керосиновую лампу, а в другой застекленное собрание семейных фотографий. Старик поставил на землю лампу, осторожно прислонил к ноге фотографии, так что чьи-то незнакомые лица стали глядеть на лица столпившихся тетеревцев, и поклонился народу.
— Откуда вас? — спросил Севастьян Прокофьич старика.
— Из Вострякова, — ответил тот, ни на что не жалуясь, а как будто так было надо.
— А нам куда? — спросил Севастьян Прокофьич у невзрачного хлюповатого конвойника с таким же невзрачным хлюповатым ружьишком.
— Да туда же, в Востряково, — шмыгнул носом конвойный. — То вверх, то вниз — такая ваша и наша жизня… Да ты не огорчайсь, папаша, там народ приветливый.
Севастьян Прокофьич прикинул — не так уж далеко, всего верст триста, и договорились они с седобородым стариком, что его семья будет жить в залогинской избе, а залогинская — в ихней. А там, Бог даст, все на прежний лад обернется.
К Севастьяну Прокофьичу подошла востряковская старуха и протянула ему икону:
— Бери, мил человек… Век эта икона в нашей избе жила, пусть она там и будет…
— А вы тогда нашу примите, — сказал Севастьян Прокофьич. — Пущай нас тоже дожидатся.
Так и обменялись иконами, хотя востряковская, пожалуй, по окладу была побогаче.
Стоя на крутом откосе в тени лиственницы с заплечным мешком, тяжелым от ненужных уток, Тиша видел, как Даша, ни на кого не глядя, несла две банки из-под монпансье с бело-розовыми геранями. Была она, как побитая, и резко выделялась из всей семьи, сохранявшей мрачное достоинство. Конфискация, несмотря на спиринские старания прищучить Залогиных хотя бы напоследок, проводилась как-то по-родственному, незлобливо и коснулась только недвижимости и крупного скота. Когда Залогины грузились на баржу, все повторилось, только в обратном порядке: первой на борт баржи взошла старуха Залогина с иконой, следом сыновья и невестки с мешками, в одном из которых тоже визжал поросенок, двое мальчишек тоже тащили самовар, а глава семьи нес под мышкой застекленное собрание семейных фотографий. Севастьян Прокофьич сказал, встав на носу баржи: «Не поминайте лихом!» — и баржа двинулась. Никто ни из провожающих, ни из залогинской семьи не плакал — все было отплакано под самогон да под заколотую телку. Тиша смотрел с берега на баржу, видел, как трепыхается вдали Дашин платочек, и ему не хотелось жить. На воде у берега еще некоторое время покачивались перья, ссыпавшиеся с залогинских подушек, потом их снесло течением.
Востряковским залогинская изба не досталась — ее заграбастал Спирин, отдав им свою, перекосившуюся. От Залогиных с баржей пришло письмишко, из него было ясно, что устроились они в той самой освободившейся избе, что тамошние мужики приняли их по-доброму и нету никаких утеснений, хотя и тоскливо.
Тиша решил отойти от общественной жизни, подался на лесосплав в Саяны, абы куда подальше, старался забыть про все, что случилось в Тетеревке, но выковырять чувство вины не мог. В одной из редко попадавших на лесосплав газет Тиша прочел дотоле неизвестное ему слово «перегиб» и подумал: какое это верное слово, но только ничего из того, что перегнуто, уже обратно не разогнешь. Однажды, перепрыгивая с бревна на бревно и распихивая багром образовавшийся на реке залом, Тиша оскользнулся, его сильно сдавило бревнами, покалечило. Много он сменил с той поры работ, но почему-то все больше по части заготовок, пока, наконец, не стал ягодным уполномоченным, в котором нельзя было узнать прежнего Тишу.
Жену Тихон Тихонович выбрал из торговой системы — удобную для семейного достатка. Детей у них не случилось, любви большой тоже не было. Тихон Тихонович изрядно грешивал во время заготовительных командировок, но почему-то все его избранницы тоже были из торговой системы и мало чем отличались от жены. Тихон Тихонович выпивал, хорохорился, но иногда вспоминал тот черемушник в Тетеревке как, может быть, самое лучшее в своей жизни, через что он сам и перешагнул.