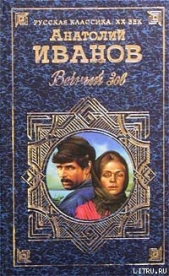Вечный зов. Том II
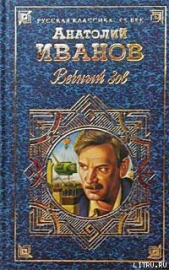
Вечный зов. Том II читать книгу онлайн
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…Немцы поднялись кучками все враз. Алифанов повернул к Семёну перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:
— Да-ва-ай!
Анфиса Инютина всю ночь не спала, одиноко ворочаясь на широкой деревянной кровати, слушала, как сопит в углу Колька, сын, разметавшийся на старом тощем матраце, брошенном прямо на крашеный пол, как кашляет за дощатой дверью эвакуированная из Одессы еврейка-учительница Берта Яковлевна, поставленная к ним на квартиру через несколько месяцев после ухода Кирьяна на фронт. Учительница была не очень старая, неопрятная, много курила, роняя пепел на бугристую грудь, затянутую обычно засаленным чёрным халатом. Вместе с ней жили две её шестнадцатилетние дочери-двойняшки Майя и Лида, носатые, глазастые, обе такие же, в мать, крупногрудые, по характеру общительные, хохотуньи. Все втроём жили в крохотной Вериной комнатушке, в которой невозможно было повернуться, дочери спали на тесной кровати, а сама мать — на сундуке, подставляя к его краю два чемодана, чтобы с сундука не свисали ноги. Днём чемоданы ставились на сундук.
С вечера захлестал ветер, потом утих, в стёкла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприютно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогодную летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая чёрные стёкла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприютный шум дождя облегчённо и беззвучно заплакала.
Дождь кончил барабанить по стёклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слёзы, перевернулась на бок и стала думать о Кирьяне, о детях, о всей своей жизни — несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко; внутри, в самом сердце, шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щёлочку, из которой пролилось бы сейчас на неё что-нибудь тёплое, обогревающее радостью, но такой щёлки не было. Всё позади было мутно и омерзительно. Жили зачем-то в этой мутной пелене Фёдор Савельев, Кирьян, её муж, Анна, жена Фёдора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намёку бежала, потеряв голову, к Фёдору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирьяна, пересудов людей. Фёдор мял и крутил её, как тряпку, ей было хорошо и приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирьяну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней прибывало желание остатком своей жизни оплатить все страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее… и тем старательнее она её будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмёт во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. «Господи, — взывала она молчаливо, в исступлённой благодарности к кому-то, — как ещё на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю…» Хватило, наверное, потому, что Кирьян — Анфиса всегда это понимала — душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и, когда он остервенело хлестал её, пьяный, где-нибудь в кустах или в тёмном сарае, Анфиса чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз тоже до крови, только кровь сочится у неё снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьёт её, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьёт, тем сильнее её жалость к нему. Однажды, ещё когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в её крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтёках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживая лохмотья кофточки на груди, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула:
— Не надо, Кирьян…
— Что не надо?! — вскричал он яростно, снова вспыхивая небывалым ещё гневом. Но тут же вскинутая голова его будто стала тяжко наливаться свинцом, худенькая шея с туго натянутыми жилами не могла удержать её, наклонилась опять вниз. Он знал, он всегда знал, какое чувство живёт в её душе! Она тогда впервые поняла это, упала, истерзанная, перед ним на колени склонила разлохмаченную голову.
— Бей ещё! До смерти забей меня, паскудину!
Он запустил в её космы пятерню, зажал в кулак затрещавшие волосы, выдохнул умоляюще:
— Анфиска! Сволочь… Всё прощу — перестань с ним только. Отринь от души.
Он ждал, в глазах его было унижение. Даже заискивающее лилось что-то из глаз.
— Не могу, — сказала она тихо, обессиленно, будто прощаясь с жизнью.
Он застонал, отшвырнул её в сторону. Она упала в траву, приминая мелкий кустарник. И долго чувствовала, как больно ноет шея…
Теперь ныла вся душа, всё тело. Почему, почему она тогда не отринула Фёдора из сердца, как вот теперь? Любила? Может, это и любовь была, да только не человеческая. Звериное у неё было что-то к нему, скотское. А он пользовался, он не жалел её. Ни её, ни Анну, жену свою. Он вообще баб не жалеет, не люди они для него… Не жалеет он баб!
Эта мысль вдруг поразила чем-то Анфису, она затаила даже дыхание. Вот ведь! — мелькнуло у неё. Фёдор никогда не бил её, пальцем не тронул. А не жалел никогда! Кирьян исхлёстывал, избивал её несчётно раз до потери сознания. А жалел, всегда жалел! В этом — разница, большая разница… Так кто же человек-то, кто человечнее — Фёдор или Кирьян?!
Анфиса задышала тяжело и быстро. Ей показалось, что она сделала какое-то важное открытие, без которого никогда бы не узнать и не решить — как и зачем ей жить дальше. Собственно, как и зачем жить дальше, неведомо и теперь, но всё скоро, в ближайшие же дни, станет ясно, теперь уж обязательно станет, думала она. Не было раньше никакой щёлочки, откуда бы пролилось на неё тепло, теперь появилась или появится… Только Кирьян перестал писать. Господи, что с ним приключилось-то? Писал он не часто, но раз в месяц-полтора приходило письмо. Сейчас нету ничего уже пятый месяц! Может, затерялось где по почтам. Обыкновенное дело — провалилось куда за стол, за ящик какой, в глухое место… Оно там лежит, а она ждёт. Похоронной же нет, — значит, живой…
Стало светать, засинело окошко, а в комнате стояла прежняя густая темнота.
Опять пошёл дождь, застучал торопливо в стёкла, громыхнул где-то далеко гром, а потом уже почему-то сверкнула молния, осветив голые бледно-серые стены и потолок. Анфиса тут же и поняла, что это донёсся гром не от этой вот, а от другой молнии, и стала ждать, когда снова загремит. Но ничего не загремело, только хлестанул сильный ливень, по тесовой, заплесневелой разноцветными лепёшками грибков крыше кто-то грузный заплясал босиком, прогибая полусгнившие доски.
Анфиса лежала и думала теперь, что ветер, наверное, за целый день не разнесёт сегодня тучи, они наглухо закупорят над Шантарой всё небо, нигде не прольётся на землю ни один солнечный лучик, солнце до самой следующей ночи будет ходить бесполезно где-то там, высоко над тучами, весь большой июльский день будет сумеречным, чем-то похожим на её жизнь, которую сломал и перековеркал Фёдор, теперь Анфиса это понимала отчётливо. Жила она когда-то, давно-давно, как колокольчик под дугой, пока на дороге не появился этот Федька проклятый с проклятыми своими усиками, которые снились ей по ночам. «Прям страшилище усатое», — сказала она ему тогда. Когда это было-то? Не то в шестнадцатом году, не то в семнадцатом… Или чуть попозже? Господи, как давно всё это было, с каких пор закрылось от неё солнышко-то тучами! С того дня, когда он, проклятый, по-звериному смял её, распластал на траве. «Не надо, Фёдор… Пожалей! Ну, пожалей, рано мне ещё…» — пропищала она бессильно и беспомощно. Не пожалел…