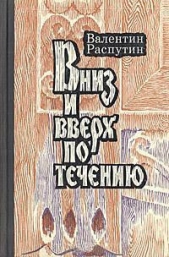Алба, отчинка моя
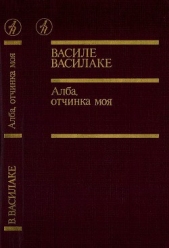
Алба, отчинка моя читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже вторую неделю ходила по дому жиличка с этим письмом и в глаза Филу боялась взглянуть. А он прохода ей не давал:
— Женика, что происходит? Почему Авиата не пишет?!
Наконец не стерпела Женика и молча подает ему письмо Авиаты. Фил проглотил его залпом, задумался и еще раз проглотил, медленно… Повернулся и прямиком через сад направился к заброшенному сараю. Вернулся он часа через два: глаза красные, а на висках листья хрена. Этак бывало в детстве, когда он капризничал и потом жаловался на боль в голове, мама ему прикладывала к вискам эти листья.
— Женика, ты как сестра… больше, чем родная сестра, что ты мне посоветуешь?
Смотрит Женика в это ставшее землистым лицо, и сердце у нее кровью обливается: «Уйти от него, смурного, другую квартиру искать? Как теперь жить под одной крышей с мужиком-одиночкой без развода, а ты в свой черед незамужняя… Почему мир так устроен? И кто в нем несчастнее: брошенный или вовсе не найденный?.. И всего-то я немного Фила постарше…» Тут глаза у Женики наливаются слезами, потому что слов этих она произнести не решалась.
А Фил зубами скрипит и как-то странно, как будто незряче, глядя куда-то в пространство, спрашивает:
— А у твоих, у животных, тоже душа болит?..
— Они, Фил, бессловесные твари. Поди узнай, что у них там болит… — И в свою очередь у него спрашивает — Куда мне податься? Искать другое пристанище?
— Кто тебя гонит?.. Дом большой, — и снова Фил зубами скрипит—…большой и пустой…
И тогда Женика принимает решение:
— Фил, а Фил, брось страдать по-напрасному. Надо, Фил, подавать на развод.
— Ох, — отвечает он, — только не это. Она, может, еще одумается — вернется ко мне… — И шепчет в безнадежной тоске: —Авиата, моя Авиата!.. Любил я тебя, так любил…
Такая боль была на лице Фила, что Женика забыла о собственной беде и подумала уже как медик, а не как женщина: «Нет, не любовь это, типичная аномалия. Господи боже мой, только бы не дурная наследственность!..»
…А каким красавцем солдатиком явился Фил в родные края прошлой весной! В белых перчатках, с красным, как лисий хвост на снегу, чемоданчиком, в новом, с иголочки, обмундировании — вся грудь в значках, словно он прямиком шагает с парада. Но где это видано: на берегах Прута разгуливать в белых перчатках? Когда здесь пыли по щиколотку и первый же дождик превращает ее в густую жижу, черную как сажа.
— Вот и наш немец объявился, — изощрялись сельские шутники, потому как Фил в Германии проходил свою службу. — Привет, Фил, это по какому случаю у тебя забинтованы руки? Боевая рана или, грешным делом, чесотка?
Фил обезоруживал их открытой улыбкой. Но шутники не отставали:
— А теперь куда, на ночь глядя?
— Да вот душа просит бани.
В селе тогда еще не было собственной бани, и вот вам новая причина для смеха:
— Не в наш ли лягушачий ставок, поплавать в белых перчатках?
— В Унгены, в райбаню.
А до Унген-то двенадцать километров пешего ходу! Фил козырял шутнику — и айда до Унген. Ну как было стерпеть двум зубоскалам на сельской дороге:
— Ты видел его?..
— Представь себе, да. Чего ему сейчас не хватает?
— Бубенчиков-колокольчиков на штанах и на шляпе, как у отца его Думитру-гундосого, чтобы ставить его бараном впереди овечьей отары!
Шутка эта была не беспочвенной. Отец Фила ходил с чабанами, и в селе это помнили. Всего дважды в год он спускался в село… скажем, с горы, хотя, скорее, это были пригорки, где, однако, зиму зимовали, лето летовали овечьи отары. Спускался он только затем, чтобы исповедаться-причаститься на пасху, а другой раз на рождество. Нельзя сказать, чтобы он был как-то по-особому многогрешен, или дикарь от рождения, или не любил бы дом, сына, соседей. Ничего подобного, все это было ему по сердцу, особенно же он привечал две синие бусинки Олимпиады своей.
Но такой уж ему выдался круг — быть все время далече от дома, ибо его преследовала болезнь, странная, неизлечимая и предосудительная в глазах окружающих. Хотя, по правде сказать, кто из нас не страдает этой болезнью в извинительной степени? Благословен сон человеческий! И отец Фила был до этого дела великий охотник. Днем-то что: с грохотом проносятся поезда, мельница тарахтит, урчат трактора и машины, самолеты с воем в небе проносятся, а люди, известное дело, пашут, молотят, злословят, потеют и шутками-прибаутками пробавляются, да еще им радио играет бесплатно — кому какое дело до молодецкого храпа?.. А вот ночью!..
Впервые сельчане проведали о том в мае 1933-го, когда все майские жуки в округе обезумели и как пули бросились стучаться-звенеть в окна села… Девушки повыпрыгивали из постелей, думали — парни стучатся; родители с палками повыбегали во двор, а там уже по всему селу голосят:
— Повесился, запутавшись в привязи, теленок у Афтении Чебану, соседки Пасати!
С вечера хозяйка его напоила, привязала подле мамы-коровы, а ему, видимо, захотелось пососать среди ночи, но: «Зачем идти кружным путем, зачем перелезать через ясли, зачем в двух столбах путаться, а уж если запутался, почему не лечь спать и не дождаться утра?» — спросите вы. А Афтения Чебану вам ответит: «Глупая, упрямая скотина! — И тут же еще спросит у вас: — А зачем в эту ночь Гитлер возглавил Германию, зачем в Америке кризис, зачем нам, бедным, навязался на голову этот король Карл II…» И это еще не все, потому что в ту же ночь Георге Негата сломал себе ногу. И вот как об этом рассказывает его супруга Настасья:
— Милая, как это гул начался, зашелестела наша камышовая крыша, а мой хозяин проснулся и думает: «Ага, сейчас поймаю вора, опять он у меня в вершах пасется, в пруду перед домом». Выскакивает на двор. Ни души. Засмотрелся на рассветную рябь, вспомнил про утренние делишки… А тут завалинка затряслась, хотел за столб ухватиться — падают вместе… Ну и сломал, бедный, ногу!
А Катинка Гросу еще и добавляет на это:
— Земля тряслась, это точно! Слышу, венцы на крыше расходятся-сходятся: пак-пак, шпок-шпок… И постель моя ходуном заходила, точно я на сеновале плыву по бурным волнам…
А вот и еще одна ночь. Скажем, человек день-деньской проводит на вольном воздухе. Вот он вечером приходит домой, ужинает в потемках… Ужинает вместе с соседями и Думитру Пасати, и вот уже готов он, бедолага без вины виноватый, отправиться в объятия Морфея, или, как у нас говорят, Симеона… Спит-засыпает село. Казалось бы, все должно вступать в величавую гармонию с миром, вот они, те мгновения, когда лопается оболочка зерна и первый робкий росток, вспотевший и желтый, шевельнулся в материнском лоне земли… А вот уже и плод тяготится своей пуповиной, соединяющей его с матерью-деревом, великие, сияющие надежды связаны у него с завтрашним утром. Но что это?.. Муж Афтении Чебану, ближайший сосед Пасати, выбегает из дому простоволосый, босой и с нечеловеческим криком:
— Люди добрые, спасайся кто может!
И следом за ним из домов своих выбегают соседи, каждый со своим криком:
— Лед взрывают в Карпатах!
— Мосты сорвало на Пруте!
— Братцы, вернулась первая мировая!.. — кричит муж Афтении Чебану и, распластавшись, падает наземь. — Ложись! Думитру Пасати ударил беглой шрапнелью!..
— Нет! — возражает ему сосед Гросу. — Это только пристрелка!
Вот уже почти вся магала собралась на дороге. Тут тебе и влюбленные, и подвыпившие, и полусонные, и полумертвые от усталости. Переминаются с ноги на ногу, нахохлились, словно птенцы, которых посреди ночи стрясло с дерева ветром…
А суть-то в чем? С чего это мы завели речь о Думитру Пасати? Дескать, сон — великая сила. Заснул Думитру Пасати — шелестят камышовые крыши домов, дребезжат фрамуги окон, о стеклах уже речь не идет, опорные столбы рушатся, венцы съезжаются-разъезжаются, друг о дружку трутся заборы, поп молится. Мазыл ругается, а земная кора на этом участке — как юбка бабушки Сафты, которую она потрусила, прежде чем повесить на гвоздь…
Каждый потрясает вселенную по-своему. Один — абсурдной идеей, другой — полным стаканом, третий — саблей, четвертый — проклятьем. А этот Думитру Пасати — посвистом-храпом своим молодецким. И тут-то сельчане вправе спросить с него: «Слушай, дашь ты нам в конце-то концов покой! Ведь каждую ночь получается что-то вроде осады: с телятами, с поросятами, с курами и вот, слышь, с собаками… Похоже, там вокруг его дома собрались собаки всей магалы… Вон вроде и моя подает голос?»