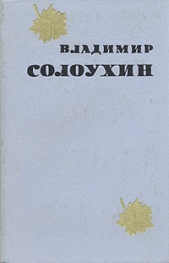Твоя Антарктида

Твоя Антарктида читать книгу онлайн
Сборник рассказов и повестей.
Победа А. Мошковского оказалась победой правды, которую мало было увидеть, отделив главное и долговечное от временного и наносного. Его герои иной раз смеются и даже хохочут. Но читателю Мошковского почти никогда не бывает смешно, ибо писатель показывает не только, как смешон герой со стороны, но и как больно ему от этого смеха.
Произведения А. Мошковского учат людей быть счастливыми. Потому что счастье не в том, в каком климате мы живем и какими вещами обладаем, а в нас самих, в богатстве нашей души, в красоте и щедрости сердца.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Худая… – согласился я.
Вот и все. В обед я мгновенно сбросил малицу, и глаза у ребят на этот раз были строги и задумчивы. После обеда я так же легко надел малицу, и мы с бригадиром поехали в стадо, которое паслось в трех километрах от стойбища. В малице было тепло, уютно, удобно, и я до сих пор уверен, что никакая городская одежда никогда не заменит этой удивительно мудрой и простой одежды тундры – малицы.
1959
Катыш
В солнечный день Катыш лежит, свернувшись возле чума, и дремлет; в дождь и сильный ветер его место под грузовыми нартами, а в холодные зимние ночи он вползает в чум, подбирается к железной печке, и его никто оттуда не выгоняет. Обедая, бригадир бросает ему жилистые куски мяса и кости с высосанным мозгом, а убив оленя, дает Катышу кишки и, если другие собаки, что помоложе, пытаются утащить его еду, гортанно кричит на них, хлещет тынзеем, и собаки отбегают.
Катыш поест, оближет передние лапы, зевнет и опять спокойно уляжется на траву перед чумом.
Он стар. Ему уже за пятнадцать лет. Человек в таком возрасте считается подростком и не очень-то разбирается в жизни, а для собаки это преклонный возраст, и далеко не каждая доживает до таких лет. Вот почему у Катыша седые усы, щеки дряблые, отвисли, глаза постоянно слезятся и смотрят печально и тускло. И когда, лежа возле чума, он видит, как молодые оленегонные лайки по приказу пастуха с заливистым, ошалело радостным лаем подгоняют к чуму стадо, Катыш не может улежать. Он вскакивает и тявкает на приближающихся оленей. Но это стариковское, хриплое тявканье не доносится до них. Катыш порывается броситься на помощь молодым лайкам, но в ногах – слабость, ломота: они плохо подпирают его. Да и трудно ему подолгу высоко держать голову.
Он тяжело опускается, и только желтый хвост его нетерпеливо бьет по земле: до чего ж бестолковые эти псы! Лая много – дела мало: надо сбить оленей в плотное стадо, а они раскололи его на несколько кучек и беспорядочно гоняют. «Ох, и не вовремя постарел ты, Катыш!» – думает он. Так и хочется куснуть за загривок одного-другого несмышленыша.
Он щелкает зубами, взвизгивает и тоненько воет. Наконец он устает от своих раздумий, медленно опускает на лапы голову и грустно смотрит на тундру, где когда-то родился, беспомощный и слепой, где вперевалку, неуклюже ходил на кривых лапах. Потом у него прорезались глаза, и он играл на травке у чума с другими щенками, кусался, повизгивал, боролся, прыгал. Когда чуть подрос и окреп, его стали пускать в стадо, но он был глуп I непонятлив. Почуяв простор, носился он по тундре, гонял и хватал зубами задние ноги быков и ликовал от одного чувства, что олень, такой большой и сильный, закинув на спину рога, удирает от него, крошечного и безрогого. И однажды он загонял белоногую важенку: она в колдобине сломала ногу. Хозяин дико гаркнул на него и так исхлестал кожаным тынзеем, что на спине вспух багровый рубец, и Катыш тоненько скулил и два дня не мог уснуть. После этого случая его привязали за ремешок к старой, опытной лайке Жучке, и, когда та повторяла все приказы пастуха – собирала или гнала в нужную сторону стадо, – Катыш катился за ней и помаленьку набирался ума-разума. Шли дни, недели, годы… Из маленького щенка Катыш превратился в крупную, сильную собаку с широкой, твердой грудью, мускулистыми лапами и острыми клыками. Летом, когда чумы стояли недалеко от моря, он слушал тяжелые, равномерные удары прибоя и смотрел на странную сине-зеленую, без единого деревца и кустика, тундру, которая при сильном ветре вся покрывается крутыми сопками, а при затишье становится гладкая, как столик, за которым хозяин пьет чай. Зимой чумы стояли в лесу, и Катыш бегал, утопая в снегу, от дерева к дереву, пригоняя далеко ушедших оленей, и среди деревьев было тепло и тихо. А потом волки… При одном воспоминании о волках дыбом встает на загривке шерсть. Он кидался на них грудью, норовя клыками поймать горло. И немало на старом, сухощавом теле Катыша глубоких, затянувшихся ран, заросших рубцов, и, если хорошенько погладить его по шерсти, пальцы нащупали бы эти бугорки, ямки и рубцы. Но хозяин его – человек строгий, неразговорчивый и редко гладит собаку.
Катыш лежит у чума, смотрит в тундру, и в его желтоватых, выгоревших и помутневших глазах светится спокойная, устоявшаяся мудрость. Вот хозяин, сидевший рядом с ним, ножом разбил оленью кость. Темно-розовая палочка мозга задрожала в его ладони. Он поднес ее ко рту, но, заметив Катыша, бросил ему вместе с костью.
– Кушай, старик, кушай. Ты у нас на пенсии сейчас, можно сказать. Кушай.
И Катыш послушно глотает мозг, потом с достоинством берет кость, ложится и начинает медленно грызть ее.
1959
Граница
Всю жизнь я прожил среди русских люден и только здесь, в далеком ненецком стойбище Малоземельной тундры, почувствовал, что значит жить среди людей другого языка.
Я вставал, мылся из рукомойника, усаживался за низкий столик завтракать, вокруг меня звучала нерусская речь, и я ничего не понимал в ней. Она звенела возле самого моего уха, то воркующе веселая, то гортанно резкая, сердитая, то спокойно-плавная. Но для меня она ничего не значила. Ее понимал годовалый мальчишка, едва державшийся на кривых ножках, и полуглухая древняя старуха, тоже едва стоявшая на ногах; даже собаки и те, кажется, понимали отрывистые окрики.
Я же был в глупейшем положении. Я сидел с ними за столиком, ел оленье мясо, пил чай и по лицам пытался догадаться, о чем они, черт побери, говорят…
Они говорили быстро, энергично, иногда подкрепляя сказанное резким взмахом руки, иногда захлебываясь от смеха, иногда темнея от злобы.
Лишь я один не мог разделить ни их радости, ни их горестей. Я сидел, равнодушный ко всему, и занимался самым презренным делом: ел да пил. Что я мог еще делать? Правда, когда все за столиком безудержно хохотали, трудно было сохранить спокойствие на лице. Но все мои улыбки или даже смешки скорее говорили о желании войти в их жизнь, чем о поддержке или осуждении того, что обсуждалось в чуме.
– Чего это вы так смеетесь? – спрашивал я иногда у бригадира Ардеева.
И он объяснял мне по-русски, что пастух соседней бригады, Панкрат, нечаянно заснул ночью; олени, испугавшись выскочившего из-под куста зайца, рванули н опрокинули его вместе с нартами в яму с водой, и он, сонный, нахлебался болотной грязи, едва вылез оттуда и добрался до стойбища. Рассказывал пастух очень смешно. Все ненцы давно уже вытерли глаза, смеялся я один, и этот запоздалый смех тоже, верно, казался не очень уместным.
Я часто спрашивал у ненцев, о чем они говорят, но постоянно приставать к ним с расспросами было неловко, и я терпеливо ждал, когда ненцы сами найдут нужным рассказать мне о том или ином случае.
Когда я был один со своим хозяином, он без умолку сыпал по-русски, но стоило среди нас появиться хоть одному ненцу, как они заговаривали по-своему, и мне не оставалось ничего другого, как гадать по их лицам и отдельным понятным словам, о чем они говорят. Если в их речи повторялись слова «тынзей», «важенка», «пелей», – значит, говорили они об оленьих, пастушеских делах; если в их речи встречалось слово «универмаг», – верно, говорили об универмаге в Нарьян-Маре, где можно купить сукно для узоров на паницы и меховую обувь, рубахи и белье.
И все же я чувствовал себя иностранцем в этом стойбище. Невидимая граница пролегла между мной и этими людьми – людьми другого языка, и я не знал, как ее стереть, переступить, как очутиться с ними в одном мире.
Вначале я даже обижался: ну что им стоит говорить при мне по-русски? Ведь это, в конце концов, невежливо – изъясняться так, что один из присутствующих ничего не понимает. Но скоро я понял, что обижаться не на что. Ведь они ненцы: когда они говорят на своем языке, им не нужно напрягаться, подыскивать нужное словечко. Зачем же им мучить себя? Обо всем, что касается меня, они охотно говорят по-русски…