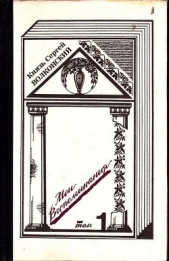Том 7. Эхо

Том 7. Эхо читать книгу онлайн
От воспитанника до мичмана, «Капитан, улыбнитесь», От лейтенанта до старшего лейтенанта, Наши университеты, Вопят огнями тишину, Непутевая тетка непутевого племянника, Еще про объединение, Счастливая старость, Чуть-чуть о Вере Федоровне Пановой, «НЕ МИР ТЕСЕН, А СЛОЙ ТОНОК?» (Из писем Л. Л. Кербера), Судьба семьи, О Викторе Платоновиче Некрасове, Из последних писем Л. Л. Кербера, ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА (В. П. Некрасов), Смерть в чужой квартире, Письма, полученные после публикации «Парижа без праздника», «У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ СПАСИТЕЛЬ» (О «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина), Из переписки В. Конецкого с А. Адамовичем.
ПАМЯТИ ВИКТОРА КУРОЧКИНАКТО Ж У ВАС СМОТРИТ НА ОБЛАКА? (А. И. Солженицын)
КАПИТАНЫКапитан Георгий Кононович, Всего две встречи, Капитан Георгий Яффе, Он поэмы этой капитан (С. А. Колбасьев), Капитан Юрий Клименченко, Россия океанская.
ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯОт Верочки Адуевой, «Я буду в море лунной полосой…», Перестройка, или Пожар в бардаке во время наводнения, Жизнь поэта — сплошной подвиг.
ОПЯТЬ НАЗВАНИЕ НЕ ПРИДУМЫВАЕТСЯ (Ю. П. Казаков).
Начну с конца, с последнего письма, Нам с Казаковым под тридцать, Перевалило за тридцать, Как литературно ссорятся литераторы, Прошло одиннадцать лет, Из дневниковых записей на теплоходе «Северолес», Эпилог.
ОГУРЕЦ НАВЫРЕЗ (А. Т. Аверченко)
ЗДЕСЬ ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ НАЗВАНИЙ (В. Б. Шкловский)
Из писем О. Б. Эйхенбаум и Е. Даль
БАРЫШНЯ И РАЗГИЛЬДЯЙ (Б. Ахмадулина и Г. Халатов)
Встречи разных лет
Разгильдяй Грант
ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ (Р. Орлова, Л. Копелев, Д. Стейнбек, Э. Колдуэлл)
На полчаса без хвоста (У. Сароян)
Архисчастливый писатель (А. Хейли)
ПРИШЛА ПОРА ТАКИХ ЗАМЕТОК
ДВЕ ОСЕНИ
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но дело не в запугивании читателя. Уж больно не вписываются блокадные фантазии в устоявшиеся каноны всех видов и типов военной прозы.
И я, например, давно устал от борьбы с редакторами, ибо она не менее тяжкая, нежели борьба с блокадным материалом.
«— …спрашивают: блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала и нынче говорит: у тебя доказательств нету… Вот я вам говорю и думаю, — может быть, и вы не поверите?
Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием недоверия, болезненным, опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний; по мере того как человек слышал себя, он настораживался, его история сглаживалась, усыхала, подменялась общеизвестными фактами».
С какой чуткостью это наблюдено, с каким бережным сопереживанием сказано! — человек и себе перестает верить, когда впервые слышит себя «звучащего».
Так вот, и я разрешил себе «сгладиться, усохнуть», сползти на всем известные факты. И благодарен судьбе, что пишу сейчас о «Блокадной книге». Когда пишешь, необходимо думать. И я вдруг понял, что не только бежал от блокадных воспоминаний, но — самое непростительное — начисто прекратил попытки осмысливать ее, блокаду.
Перелистал записки за последние десять лет — чего там нет! А о блокаде — ни ползвука. Сколько прочитал за эти годы блокадных книг литераторов, историков, военачальников, документальных и каждый раз ловил себя на тягостно-неразрешимом: «Эх, ребятки, все это „не то“!» Но ни разу даже на самое легкое — на чужую книгу — душа не заставила самого взять перо, поспорить или поблагодарить.
«Мы выясняли не историческую картину, а скорее состояние людей того времени».
Адамовича и Гранина интересует в первую очередь пережитое, то есть изведанное душами людей. Но оказалось, что быт тела и бытие души «сошлись». Тогда встал вопрос о том, как в умирающих людях возникала душевная несокрушимость. И не в одном схимнике, одном сознательном страдальце, а в сотнях тысяч невольных мучеников.
Далее встал вопрос о том, пришло ли время для рассказов такой правды и такой беспощадности. Вопрос странный, но в наше время ставший каким-то типическим. Какое у правды время? Для правды время не существует. Как только узнал ее, так и отдавай ее другим. Недаром авторы задаются следующим вопросом: «…не ушло ли, не упущено ли время и возможности рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, как это помнят лишь сами ленинградцы?»
Нил Николаевич Беляев (такой разрядкой в написании имени авторы часто заменяют все сведения о человеке-рассказчике: не дают ни года рождения, ни биографии, ни портрета, ни обстановки разговора) горестно бормочет: «Ведь сейчас вообще вроде считают, что хватит говорить о блокаде». Он бормочет это после того, как веселая девушка заявила, что неделю может прожить без хлеба, отлично себя чувствуя, и потому: «…подумаешь!»
Самое парадоксальное, что так «вроде» считают чаще именно у нас, в Ленинграде. Иллюстрацией чему может в какой-то степени служить и то, что «Блокадную книгу» печатал «Новый мир». Не знаю, может, здесь и простая случайность, или авторы специально выбрали Москву — обращаться из столицы ко всей стране удобнее, — но для меня это выглядит символичным в другом смысле…
И Адамович и Гранин широко известны, оба имеют богатые запасы литературного материала и спокойно могли бы обойтись и без чудовищной работы по сбору и переработке блокадных свидетельств.
И вот пошли тратить душу и время. Начали работу в 1976 году. Собрано, записано, разобрано больше восьми тысяч страниц машинописного текста.
Я без всяких сомнений и преувеличений приравниваю это к поездке Чехова на Сахалин.
Читатель, может, и не представит тех тягот, которые выпадают на долю собирателей, пришедших к немощной старухе-блокаднице, давно одинокой, мечтающей о доме для хроников, а место там ей и не светит. Или к ослепшей после блокады женщине, существующей на двадцать рублей в месяц, потому что нужные документы сгорели в районном архиве загса. Или к еще бодрому однорукому инвалиду, который живет в коммунальной «старо-петербургской», как стеснительно говорят авторы, квартире и ни разу еще не мылся в ванной, ибо очередь на новую квартиру все огибает его стороной — он ведь не ветеран…
А может, здесь к месту будет поднять вопрос, чтобы ветеранов блокады, которым исполнилось, скажем, шестьдесят или семьдесят лет, приравняли к ветеранам Великой Отечественной?
И вот к таким не очень устроенным людям является писатель, чье звание в нашем городе связывается с какими-то прямо фантастическими возможностями. И каждый начинает надеяться… И на то, что именно его показания напечатают, и именно его канувших в безвестность родных и близких воскресят в памяти живущих. А надо-то честно объяснить, в глаза глядя: «Ничего обещать не можем: бог его знает, как книга сложится, но, мол, в архив Музея истории Ленинграда уж обязательно теперь попадете…» А они, кроме архива, еще и на то надеются, что писатель, услышав, увидев их сегодняшнюю жизнь, и в райисполком сигнализирует, и в архиве загса найдет ту заветную справку, которую выдавали весной 1942-го уборщикам трупов, нечистот и льда. По такой справке можно и медаль получить «За оборону Ленинграда», и что-то где-то протолкнуть…
Да, раскапывая прошлое, писатель проходит сквозь живых, а разве всем поможешь?.. Боже, как трудно устроить одинокую и больную старость, в какое горе превращается существование иных задержавшихся на этом свете долгожителей! А есть какой-то закон, когда некоторые люди после блокады живут потом особенно долго, ибо, вероятно, прошли естественный отбор на приспособляемость и живучесть…
Да, одно — психическая нагрузка, когда расспрашиваешь о блокадном былом маршала, другое — вечную «домохозяйку», какую-нибудь Марию Ивановну, чья любовь к ближнему подняла человечество на новую грань самопознания и достоинства — и которую оставляешь в слезах, вызвав ей с улицы из автомата (телефона, конечно, нет в квартире) «неотложку», а надо идти к следующей Марии Ивановне… Надо! В том-то и дело, что «надо», хотя никто не велел, не посылал, и впереди терний куда больше, чем лаврового листа…
А само писание? Понятно, почему книгу делают вдвоем. Слишком велики психические перегрузки, нужен рядом товарищ. И потом, как рассказать о запретно-патологическом, запретно-физиологическом, запретно-психическом?.. Особенно в нашей сверхцеломудренной русской литературе. Запад без особых терзаний пишет физиологию. Недаром авторы опираются в описании голода на Гамсуна. Сами не тянут, не могут, опыта нет, прецедента. Или о смерти взять. Выше «Смерти Ивана Ильича» вроде и нет. Но Фолкнер или Хемингуэй начинали с рассказов о смерти — начинали с этого! Толстой с детства начинал, Чехов — с юморесок, а они — со смерти!
Конечно, Хемингуэй видел смерти очень много, и человек он огромного личного мужества перед ее лицом. Но видел он ее в каком-то не том ракурсе, нежели видим мы. А когда ее насмотришься в нашем ракурсе, то писать о смерти ох как нет охоты! Ох, как нет!
Тяжело смерть писать, а без нее любви не напишешь.
А ведь почему выстояли-то? Потому что друг друга любили, родину любили, жизнь любили.
Есть общечеловеческое: перед общей, например, близкой опасностью между вовсе чужими людьми возникает какое-то торопливо-сиротское ощущение товарищества от надежды на то, что в самый страшный момент не будешь один. Это бойцов перед атакой касается, собранных вдруг из разных недобитых до самого конца рот, собранных с бору да с сосенки, чужих вроде вовсе друг другу человеков. Да и любых людей касается и в мирное время, когда они отсчитывают последние секунды перед опасным и страшным поступком. Но сколько ждут сигнала к атаке? Ну максимум — часы. А сколько ждали конца блокады?
Тут только долговременные факторы человеческого духа нужны были.
И авторы это предельно поняли: «Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матерей и детей, близких, родных, сослуживцев».
В 1943 году в Ленинград приехал английский журналист А. Верт. Он знал русский язык, с ним легко было общаться. Он встретился с Вишневским, Кетлинской, Прокофьевым, с художником Серовым, дирижером Элиасбергом.