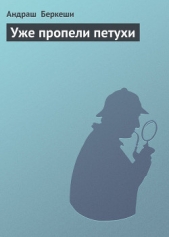Семигорье
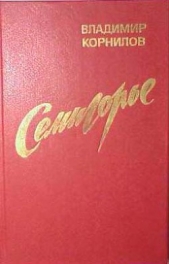
Семигорье читать книгу онлайн
Вниманию читателей представляется публикация первой книги из знаменитой трилогии писателя («Семигорье», «Годины», «Идеалист»), которая с успехом выдержала более шести переизданий. Ибо именно этот роман, как и его герои, всегда и по праву оставался наиболее востребованным и любимым читателями самых разных категорий и возраста.
Он начинает повествование о разных и увлекательных судьбах своих героев на фоне сложных и противоречивых событий, происходящих в нашей стране на протяжении середины и до конца прошлого XX века. Эта книга трилогии — о событиях предвоенных 30-х — 40-х годов, пропущенных через пытливый ум и чуткую душу главного героя трилогии — Алексея Полянина, которого автор сделал выразителем для своих впечатлений, пережитых за долгую и трудную, но общепризнанно выдающуюся жизнь. В этой книге мы также начинаем знакомиться и со многими другими персонажами трилогии, которые потом пойдут по жизни рядом с Алексеем, либо, так или иначе, окажут своё влияние на становление в нём настоящего Человека…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разумеется! — подчёркнуто спокойно ответила Олька. — С завучем я договорилась.
Она сидела на своём почётном месте, на середине стола, и смотрела на всех, сидящих в столовой, взглядом смешливым, как у матери, и лукавым.
Бабушка Катя спиной грузно опёрлась на буфет, упрятала руки под фартук и с тревогой неотрывно глядела на свою кровиночку Лену, сейчас молчаливую, сосредоточенную и замкнутую.
— Нут-ко, Мария! — баба Катя говорила, придыхая на каждом слове, и всё глядела на Елену Васильевну, стараясь разгадать её настроение. — И чего баламутишь. Ленуше, может, главное — поуспокоиться. Господи! К родному и то ей сызнова привыкать!.. Ишь заторопыжничала. Не блох на загривке ловишь!..
— Ах так? — сказала Мура-Муся. — В таком случае я молчу… — Она оскорблено поджала подбородок, и щёлочка между её губами стала не толще нитки.
— И помолчи! — вконец осердилась баба Катя.
— Мама, Мария говорит дело! Не надо тянуть то, что уже оборвано, — голос Марины Васильевны прозвучал резко, как автомобильный гудок, и все повернули к ней головы.
Старшая сестра не знала проблем. Жизнь, по её понятиям, была определённа и проста, и всё, что нужно для жизни, она имела. Она счастливо жила со своим Александриком в маленькой квартирке этажом выше, где мягкая мебель создавала непроходимый уют. Надо было раз и ещё три раза что-то передвинуть, чтобы пройти от буфета с рюмочками, вазочками и чашечками до огромного платяного шкафа и от платяного шкафа к полированному картёжному столику на двоих. Гостей они с Александриком никогда у себя не принимали, — для этого доставало места внизу, у мамы, — окна в их квартире всегда были полу зашторены, широкая, как деревенская печь, кровать никогда не убиралась и не застилалась покрывалом.
Даже днём кровать манила взбитыми подушками и мягким светом оранжевого ночника.
Единственная проблема, которая волновала старшую сестру Марину, — это «катастрофически», как выражалась она, падающие волосы. Но и эту проблему она сумела почти решить: она старательно подвивала рыжеватые волосы и весьма искусно укладывала их на голове. Если к этому добавить её усердие, с которым она следила за своей, пусть заметно пополневшей, но всё же не потерявшей привлекательности фигурой, и её умение прямо держать спину и короткую шею, то вполне можно было бы согласиться с её мужем Александриком, исполняющим где-то незаметную, но доходную должность по бытработам, что «его Моменция из тех, кто — во!..» — в переводе на житейское просторечие это означало: «На большой палец!»
Итак, своё отношение к возникшему на семейном совете вопросу о судьбе Елены Васильевны высказывала старшая из сестёр — Марина.
— С тем, с чем внутренне кончено, — говорила она, сидя прямо, как на троне, — надо кончать официально. Метаться нечего. Пора смотреть на жизнь трезво и принимать её, как есть. Ясно, захолустье Елену портит. Слава богу, ещё не испортило. Питер и наша постоянная помощь — это единственное, что оживит её вконец истерзанную душу. Принесёт успокоение всем нам. Разумеется, в первую очередь самой Елене. Мы все понимаем, что камень преткновения не в Ленушке. Мы должны убедить Алексея, должны заставить его понять страдания матери. Если он будет упрямиться, нечего перед ним лебезить. Коленкой под зад — и пусть едет к кострам, болотам и прочей отцовской дикости!..
Все увидели: в напряжённо-задумчивом лице Елены Васильевны проступило страдание. Как от холода, она повела плечами, и первой это заметила Олька.
— Мариночка! Так нельзя! — крикнула она, торопясь загладить решительную, как удар плетью, прямоту старшей из тётушек; такая фамильярность Ольке позволялась. — Алёшку обязательно надо уговорить! Деревенщины, дай боже, он уже нахватался. Медведь медведем! И пора делать из него человека. Верно ведь, Ленушка?..
Елена Васильевна вздохнула и слабо кивнула головой. Олька отлично знала слабые места всех своих тётушек и, при случае, точно пользовалась своим преимуществом. Иногда в общих интересах.
— Ты что думаешь об этом, Нюкочка? — спросила она вторую из старших сестёр.
Сестра Анна сидела на низкой скамеечке у окна молча и, не переставая, курила. Время от времени она пальцем стряхивала пепел с папиросы в приоткрытый спичечный коробок. Она была полной противоположностью Марине — сутулые плечи, худое лицо, вислый, заугрюмевший в семейной жизни нос. Печать трагического была в её лице, в глубоких, добрых, печальных глазах. Муж её, Михаил Львович, полный, жизнерадостный еврей, администратор одного из ленинградских театров, был всегда в бегах, и на семейную жизнь у него как-то не хватало времени. В квартиру он обычно влетал как весёлый гость — шутил, смеялся, угощал всех дорогими конфетами и исчезал. И чем подвижнее и жизнерадостнее был Михаил Львович, тем молчаливее и угрюмее становилась Нюка. Горы выкуренных папирос громоздила она в пепельницах, всё больше сутулилась и как будто немела.
Нюка курила, задумчиво смотрела на пепел, собранный в спичечном коробке. Вздохнув, закрыла коробок, голосом сухим и бесстрастным сказала:
— Ленуша во всём разберётся сама. Ваше кудахтанье вряд ли ей поможет. Яйцо-то не ваше!.. — Не поднимая головы, она поднесла папиросу к губам, затянулась и больше не сказала ни слова.
Старшая Марина возмутилась. Округлив и без того круглые глаза, она говорила теперь быстро, как будто никому не хотела позволить себя перебить.
— Что за нравоучения?.. Что за тон?.. Если тебе безразлична судьба Ленуши, молчи! Возьми чистую тряпочку и заткнись! Ленуша в землю зарывает свой талант. Мучается! Не знает покоя, счастья! И ради кого она должна приносить такие жертвы?!
— Действительно! Как будто нам всё равно! — запоздало возмутилась Мура-Муся. — И это говорит сестра! Боже!..
На Нюку, бесстрастно курившую, накинулась бабушка Катя, и все говорили и кричали враз, и в столовой начался такой тарарам, что Елена Васильевна ниже опустила голову и зажала уши.
Дед Василий стоял у стены, скрестив на груди руки, склонив голову, и молча внимал голосам. Он стоял, как само Терпение, как сама Мудрость, и не проронил ни слова, не сделал ни движения, пока говорили все.
Но когда в столовой поднялся шум, пустой, как удары барабана, и дед Василий увидел, что Елена страдальчески сморщилась и закрыла уши руками, он отвалился от стены и голосом тихим и властным, каким когда-то разговаривал с ним генерал, произнёс:
— Все — марш! — Он стоял неподвижно, не убирал с груди скрещенных рук и ждал. Сёстры и баба Катя друг за другом послушно вышли, Олька по-прежнему с независимым видом сидела за столом. Дед ласково, но твёрдо сказал:
— И ты, Оленька, поди…
Олька надула губы, но встала и тихо вышла в гостиную.
Дед Василий подошёл к Елене Васильевне, рукой лёгкой и дрожащей погладил её волосы.
— Привычное, доченька, ломать тяжко. Я это знаю. А всё же бытьё убеждает — разрыв лучше трещины. — Он подвинул себе стул, сел, раскинув колени, рядом с Еленой Васильевной, уже другим тоном, чётким и властным, сказал:
— Вот что, Елена: мыкаться хватит. Жить станешь в Питере. Квартиру, как Марине, схлопочу. Улажу с пропиской. Изыщу работу рублей на пятьсот — шестьсот. Ну, а мы рядом. Что надо из вещей, возьмёшь у нас. И музыку забирай — нечего Марии попусту горло драть! Муж потребуется — мужа подышу. Такого, что за счастье сочтёт на коленях быть перед тобой. Лёшка школу закончит, ему дело найдём. Либо в институт. Пока я жив, душенька твоя будет покойна и ты обеспечена. Это я обещаю. Как, доченька, договорились?..
Елена Васильевна с трудом разомкнула ссохшиеся в молчании губы.
— Не знаю, папа. С Алёшей надо говорить.
— Надо — так говори! — Дед Василий встал, в раздражении покачал стул, коленкой вдвинул под стол. — Говори да помни, что не ты при нём, он при тебе… Олька! — окликнул дед Василий, как будто был уверен, что внучка не отошла от двери гостиной. Дверь приоткрылась, выплыло, будто полная луна из разрыва туч, улыбающееся Олькино лицо. Невинными блестящими глазами она смотрела на деда.