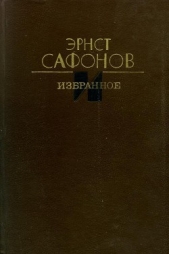Избранное
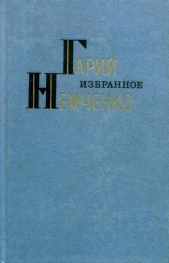
Избранное читать книгу онлайн
Проза Гария Немченко — о наших современниках, о дне сегодняшнем. Его герои — люди щедрого и глубокого сердца, и чем сложней отношения между ними, тем богаче жизненный опыт каждого. Опыт этот писатель относит к категории нравственных ценностей. Отсюда и главная тема — осознание человеком самого себя как личности, понимание неразделимой причастности к судьбам Родины, поиск духовного родства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Котельников невольно поглядывал на косой, в синеватых крапинках рубец, который рассекал край белесой брови и прятался под прической на виске у Филипповича, и тот дружески спросил:
— Что, Андреич, на прописку на мою смотришь?
Жена его, Таисия Михайловна, полная, с румяными щеками и певучим голосом, стала рассказывать, что жили они тоже в Сталегорске и Филиппович работал на шахте, передовик был и получал хорошо, уже машину собирались купить, но тут случилась авария, сломало его под землей, и год или два потом он все ходил по врачам, надоело, мочи нет, и толку никакого, — тут он и вспомнил, что и дед, и отец его были всю жизнь лесничими... На те деньги, что отложили на машину, купили они в деревне хороший пятистенок, да и пошел Анатолий Филиппович егерем. С тех пор одиннадцатый год, как живут не тужат, детей вырастили, остался только один, последний, в городском интернате, в этом году десятый заканчивает... А Филиппович ничего, отошел, на здоровье сейчас грех жаловаться, и сам себя вылечил, и кого другого, если возьмется, поставит на ноги, потому что характер у него такой — лесной, упрямый...
При последних этих словах Филиппович все чаще кивал, широкоскулое лицо его стало очень серьезное, даже как будто значительное, но потом вдруг зажглось молодою улыбкой, и, посмотрев на Котельникова так долго, будто хотел убедиться, что тот запомнит все правильно, сказал мягко:
— Она меня спасла!
Таисия Михайловна вскинулась так, словно впервые это слышала:
— При чем тут, Анатоль Филиппыч? Ты сам!
И он, чему-то тихому, одному ему, пожалуй, известному, улыбнулся, поглядел теперь долго на нее, обнял за плечи и седеющие волосы на виске тронул косым своим подбородком:
— Сугревушка моя теплая!
Сколько ни присматривался потом Котельников, все у них было добром да ладом, он вскоре стал замечать, что ему нравится быть с ними — около них словно отдыхал душой, словно набирался и спокойствия, и веры...
— С медком, Андреич? Париться будем. Или с квасом?
Он чуток подумал, ничего при этом не вспомнил и только пожал плечом:
— Может, с квасом?
— Ну, полезай, погрейся.
Банька хорошо выстоялась, в ней держалось ровное и сухое тепло, которое здесь, на верхнем полке, плотно охватило Котельникова, нагрело сперва кожу и разом проникло сквозь нее — плечами и спиной он вдруг ощутил этот сладко кольнувший миг... Замер, к самому себе прислушиваясь, а внутри у него еще что-то отогрелось, отомкнулось, ослабло, и благостное это тепло шевельнулось уже гораздо глубже, стало копиться там, ступило дальше.
Сперва он обеими руками вцепился было в толстый край горячей лиственницы под собою, но теперь плечи у него уже одно за другим опустились, расслабилась спина, разжались пальцы — весь он словно оплывал и подтаивал...
— Как ты там?
Он только протянул нараспев:
— Филип-пови-и-ич!..
Веники уже распластались в двух широких тазах на выскобленной добела скамейке, над ними послушно вис тонкий парок... Из потемневшего, чуть подкрашенного зеленью кипятка Филиппович вытащил один, положил на полок рядом с Котельниковым, и тот не удержался, взял. Веник ярко отсвечивал щедрым весенним цветом, каждый его острый листок был упруг и словно еще продолжал жить на разбухшей от тугого сока земли светло-коричневой веточке; всякая из них, казалось, только что была сломлена и мокрая лишь оттого, что не просохла после шального дождя.
Котельников сунулся лицом, ловя кутающий веник еле заметный парок, и ему захотелось закрыть глаза, он закрыл, нетуго зажмурился, снова окунаясь носом, щеками, лбом в жаркую, мягко липнувшую листву, и ноздри ему опять обжег горячий дух летним зноем распаренных трав, что-то такое пронеслось, ярко осветившись на миг: буйная от разноцветья, от шевеленья солнечных пятен поляна под раскидистою белой березкой... густой шмелиный гуд... теплый ветер.
Филиппович, выливший в таз кваску, теперь помешивал ковшиком, чуть исподлобья глядел на Котельникова с дружеским, внимательным любопытством:
— Ну как?..
Не отвечая, тот опять зарылся лицом в разомлевшее нутро веника.
— Принимай, Андреич, парок!
Отступив от печки на шаг, Филиппович коротко махнул ковшиком, и каменка отозвалась глухим пыхом, сухая и жаркая волна толкнула в стенку напротив, по кругу пошла под деревянным потолком, разом накатила, и Котельников сперва чуть пригнулся, но тут же ему, уже поймавшему жадными ноздрями густой ржаной запах, захотелось выпрямиться, и он осторожно поднял голову, ощущая, как тонко палит внизу крылья носа и самый его кончик, вытянул шею, открывая рот и сглатывая этот обжигающий, похожий на полыхнувший из духовки с прокаленными сухарями воздух...
Подбросив еще ковшик, Филиппович присел рядом.
— Гуси твои, Андреич, из головы не выходят...
Задохнувшийся Котельников уже хотел было скользнуть вниз, но эта мирная интонация, с какою заговорил хозяин, невольно остановила его, он только пошире расставил ступни и угнул голову, попытался искоса глянуть снизу.
— Больно поздно для дикарей... Может, все же — домашние?
Выпрямляясь, он прикрыл ладонью огнем горевший сосок:
— Филиппович?!
Тот сидел еще совершенно сухой, только мелкая испарина проступила на выпуклом лбу у края фетровой шапочки:
— Ну-ну... Значит, что-то важное задержало их... Крайность какая... Так они на Никиту-гусепролета, это больше месяца назад, в сентябре. Что их такое могло?
— И разве бы домашние взлетели, если сделать губами?..
— Как бы не накрыли где холода.
— Ну я, Филиппович, напереживался! Сердце до сих пор не отошло.
— Попаришься, все как рукой... Как тебе парок?
Чуть растопырив локти, Котельников положил руки на колени, так что ослабевшие кисти остались висеть между расставленными ногами, уронил голову и только шевельнул ею слегка.
— Ты, если что, не стесняйся вниз, необязательно наверху, а сюда потом, когда веничком тебя буду...
Котельникову нечем стало дышать, был миг, когда ему показалось, не выдержит жара, провалится в обморок, упадет с полка, но, странное дело, за этой добровольно принимаемой мукой он словно угадывал впереди освобождение не только от нее, но еще и от чего-то другого, от чего ему давно уже очень надо было освободиться, и он упорно продолжал сидеть, все накаляясь, все набирая телом этого благостного ржаного тепла...
— Ну-ка, Андреич, ложись!
Голос дошел до него с опозданием, словно очень издалека, он начал медленно привставать, и раз и другой к полку примерился и только потом лег, слегка попятился на горячей доске, подался от края назад, в угол пятками и, невольно напрягши спину, затих.
Филиппович положил ему руку между лопаток, пониже шеи:
— Думаешь, бить буду?.. А ты не жди. Ты, Андреич, поникни... Совсем пропади.
Мягко повел по спине рукой, и что-то такое в Котельникове ослабло, разжался главный, вбиравший в себя всю волю его, комочек, и вслед за ним доверчиво, там и здесь, разжиматься стали, слабеть и мякнуть мышцы, словно их лишили вдруг напряжения, разом отключили.
Краем глаза Котельников уловил замах, но веник пронесся над ним, не коснувшись, а только обдав его, разом опалив тугою волной проникшего сквозь кожу тепла. Сладко прошили тело тысячи мельчайших иголок, замерли в нем на миг, от следующего взмаха проникли глубже, кольнули и мучительней, и вместе нежней...
— Совсем, Андреич, поникни...
А его уже будто и не было совсем, были только мигом живущие, тут же таявшие, подмывающие душу мурашки...
Он долго потом приходил в себя, лежа на соломе, постепенно возвращались к нему силы, из таинственной, дающей отдых и спокойствие глубины неспешно выплывало сознание, делалось яснее и четче, и, приподняв голову, подставив под щеку ладонь на подрагивающей, грозившей съехать набок руке и глядя из-под полуприщуренных тяжелых ресниц на цветные занавески, на темное, с отпечатком электрической лампочки над ними стекло, Котельников вдруг невольно улыбнулся тому, что, выпавший из стремительных, как скорый поезд, будней стройки, развалился тут нагишом на полу посреди летней кухоньки, блаженствует в крошечной этой, тихой и чистой деревеньке, в которой не слышно ни железного лязга, ни дробного рокота моторов, ни подташнивающего запаха горючки, — последнею, какую он тут видел, машиной был привезший его сюда управленческий «газик»... Мир вокруг опять вдруг потерял реальность, и странным ему показалось и собственное житье здесь, и неторопливые, за вечерним чаем рассказы Филипповича... Что, и правда, будто самая горячая пора начинается тут у людей поздней осенью, когда городское начальство средней руки едет сюда бить из-под фар зайчишку? Филиппович говорит, председатели двух-трех соседних колхозов организуют тогда летучие отряды на мотоциклах да на «козликах», браконьеров ловят за трудодни, ведут в поселковый Совет, где Советская власть дежурит по этому поводу круглосуточно, составляют здесь протоколы, увозят в сельский райком, и туда потом начинается паломничество, смысл которого для района в некотором отношении важней, чем уборка, предположим, картошки... «Нехорошо, Пал Максимыч, получается, очень, как видите, нехорошо!.. Что ж это выходит? Разорять село все мы мастера — это вот коснись дело помощи... Третий год ферму не можем достроить, молокозавод стоит, нет металла для монтажа, — думаете, кто помог? Вы, говорите, помочь нам могли бы?.. Что ж, тут надо подумать!»