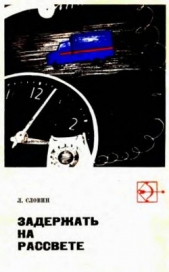Большаки на рассвете

Большаки на рассвете читать книгу онлайн
Действие романа происходит в Аукштайтии, в деревне Ужпялькяй. Атмосфера первых послевоенных лет воссоздана автором в ее реальной противоречивости, в переплетении социальных, духовых, классовых конфликтов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тихо, словно тень, вошла мать. Она беззвучно поставила на столик кувшин с квасом, примостилась рядом.
— Почему вы так грызетесь, дети мои? Что я всю жизнь слышу от тебя, Миколас? — сказала она. — Брань, грохот мебели — только успевай все ставить на место да убирать. А ты, отец, — обернулась она к появившемуся на пороге отцу, — разве ты сказал мне хоть раз слово по-человечески? Твоих сыновей растила, не чужих. Ты все на мельнице да на мельнице. Щупаешь кошельки, все время шаришь в своих ящиках, что-то ищешь, ничего не видишь, а мне и невдомек, сколько у тебя этой проклятой деньги. Что нас ждет? Думаете, я долго так протяну? Поседела до срока. Давно смотрю на вас и диву даюсь: один шатается по свету, дома как гость; другой тоже — не успеет порог переступить, как снова куда-то мчится; третий сидит, подмяв все под себя, а меня тут словно и нет, меня вы не видите.
— Ах, мать, мать, — только и сказал я. — Думаешь, я не пробовал найти с ним общий язык, не пытался его переубедить? Каждым своим движением, каждым своим словом я старался открыть ему глаза. Разве я тебе, Миколас, зла хотел? Хоть возьми да бухнись на колени и бога моли: открой ему глаза, всемогущий. Разве он когда-нибудь со мной считался? Слыхала, какими словами он меня сейчас попотчевал?
— Я тебя, Вигандас, не виню, вижу — ты сказал сейчас то, что и у меня на языке, но, боже, боже, как мне за вас страшно.
Некоторое время было тихо. Только метались по полу тени, со двора доносился глухой шелест липы, вдали погромыхивал гром.
Мать задержалась еще немного, вздохнула и вышла. Отец не сказал ни слова, сидел, положив руки на колени, брат невидящим взглядом смотрел в одну точку. Может, Миколас и не законченный негодяй. Может, в других условиях его пыл, решимость и смелость вызвали бы даже восхищение. Восхищение? Такое ощущение, что он и сейчас чувствует на себе чей-то восторженный, вдохновляющий, одобрительный взгляд. Не знаю… ничего я не знаю… я видел своими глазами, как он молился перед ликами святых. Может, в нем есть что-то затаенное — что? Самозащита, эгоизм, жажда властвовать? А может, это только крайнее выражение болезненного самолюбия? Может, так, в судорогах, должно умереть все, чем мы жили до сих пор. Всем своим существом я в ту минуту почувствовал, что он обречен, ужасен, что он погиб для меня, погиб для матери. Он растоптал то, чего топтать нельзя.
Я молчал, думал, смотрел, как колышутся на полу тени акаций. В открытые двери врывался теплый ветерок, по-прежнему светил месяц, где-то далеко за лесами еще гремел гром, стояла душистая животворная ночь, но мне почему-то казалось, что там, на западе, уже льется кровь, бухают взрывы — перед глазами маячили полки, чеканящие шаг на улицах Германии. Не обрушится ли их лавина и на наш край?
— Видишь, — вдруг заговорил отец. — Я тебя в учение отдал, Виганделис. Во многих местах ты побывал, многое увидел… — он бросил боязливый взгляд на мельницу, стены которой изредка озарялись светом молний, прислушался, как, падая с плотины, клокочет вода. — Сам видишь, как они со мной поступили: мельницу отняли, урезали землю. Те, кто раньше, только завидев меня, шапку снимали или что-то лепетали, теперь смотрят на меня свысока, исподлобья. Каждый готов плюнуть мне в лицо. Я даже сам начинаю смотреть на себя как бы со стороны. Куда ни пойду, со мной семенит сгорбившийся старичок в кожушке, он то забегает вперед, то отстает, то, поравнявшись со мной, останавливается у прилавка, шарит в кошельке, или, навалившись на стол, хлебает суп из миски. Все он делает украдкой, как бы боясь чужих глаз или сердясь на самого себя. Разве это, сынок, нормально, разве так должно быть? Будь добр, ответь мне — кто в этом виноват? Никогда я людей не чурался, мне всегда было по душе, когда другие оглядывали мою одежду, следили, как я торгуюсь на рынке, как, стегнув коня, сажусь в карету; нравилось, когда смотрели на меня с почтительным страхом, завистью или даже злобой. Шут с ними, думал я тогда, что они могут мне сделать, кто они такие. А теперь я в страхе. Повсюду меня преследуют полные злобы и презрения глаза. Меня! Мильджюса! Словно какой-то злодей, голос поднять боюсь, плетусь, как затравленный зверь, поджав хвост. Улажу свои дела в местечке — и чуть ли не бегом домой. Теперь любой сопляк может тебе такое в лицо бросить, аж дух перехватит. И попробуй раскрыть рот, вытянуть кнутом по спине — живьем растерзают. Они только ждут, только подбивают: ну, попробуй, Мильджюс, пошевелись, покажи, кто ты теперь? Вот ты человек ученый, ответь мне: разве можно допустить, чтобы так было? Ты мне скажи, можно это вынести?! Как они смеют?! Голь перекатная! Все они у меня в кармане сидели, а теперь… Подумай только: даукинтисы, визгирды, и те от меня теперь шарахаются, как от чумного — никто и не думает возвращать мне долги. Напомнил я тут одному, а он мне: «Да знаешь, ты, куда свои квитанции засунь!» — как топорам отрубил. Взять, к примеру, Криступаса Даукинтиса — ведь и этот голодранец на моей мельнице работал, — намедни, шатаясь, подошел ко мне, положил на плечо руку и, тряся головой, бросил: «Не завидую я теперь тебе. Совсем не завидую. Не хотел бы я быть на твоем месте, ой, не хотел бы. Получил ты по заслугам. Псом ты был, а не человеком. Понимаю я тебя, только ничем помочь не могу. А если бы и мог, то не помог бы. Такой уж ты уродился. В твоей груди не сердце стучит, а мельничные жернова крутятся. С волоками [1], с мельницей на свет ты родился, с ними и помрешь. Когда хватали, делили волоки, делили и тебя. Не так ли, Мильджюс? Тебе, конечно, больно, ты весь теперь как бы из лоскутов сшит, — глумился он надо мной, радуясь моему несчастью. — Жаль мне только твоего сына Вигандаса, а Миколас сам погибель найдет и других погубит», — говорил он. Но чего стоит эта его откровенность? Я и теперь чувствую тяжесть его руки, которую он положил мне на плечо. Эта тяжесть меня к земле гнет. Вижу его осоловелые от водки глаза. Нет, я бы никогда раньше не поверил, что Даукинтис отважится вот так положить мне на плечо руку, а я, стоя на базаре возле ящиков с поросятами, буду слушать его. «Такие вот делишки. Таким, как ты, несладко. Кулачество надо вырывать с корнем, — говорит. — Ты как волк в чаще. Сперва мы выли, теперь ты повоешь. Будь здоров и передай мой трудовой привет Вигандасу, с ним я всегда находил общий язык. И низкий поклон вашему высокопревосходительству. Мог бы я тебе и чарочку поднести, но ты ведь откажешься. А может, не откажешься? Может, все-таки на дармовщинку выпьешь, а? Денег не жалко, вон сколько их у меня, — и достал из кармана пачку смятых банкнотов. — А ты, Мильджюс, даже на гроб себе пожалеешь. Ведь пожалеешь? Он пожалеет, ох, пожалеет», — заорал он на весь базар и, шатаясь, зашагал к закусочной.
Один я теперь, сынок, и был бы совсем один, если б не Миколас. Он им покажет. Ведь так, Миколас? Мы этого не потерпим, нет, нет. Никогда! Миколас заставит их ползать на коленях, они еще попляшут под нашу дудку. Правда, Миколас?!
— Да, да, отец, — сказал тот, думая о чем-то своем.
— Вот это настоящий сын. Он меня понимает и любит. А ты будто не в моем доме рос, может, и отцом признать меня не желаешь, косишься на меня, как эти голодранцы? И Миколас тебе не брат. Все от нас отвернулись. Славное, громкое имя Мильлджюса для тебя слишком тяжкая ноша. Скажи мне откровенно, — произнёс он, понизив голос и разжав пухлые кулаки, — как тебе нравятся перемены? Может, считаешь, что эти голодранцы правы, что так и должно быть? Ты всюду ищешь свою правду, но мы хотим жить, и жить, как раньше. Понимаешь? Мы для тебя, наверное, и не люди, мы для тебя уже не существуем!.. Вот так сыночка я вырастил, вот как он меня отблагодарил и утешил на старости лет!
— Да, да, — не скрывая своего презрения, сказал брат. — Он большевик. Святоша! Вот кому мы должны упасть в ноги, вот кто благословит нас своей интеллигентной ручкой, окропит своими горькими слезками, отведет к прихожанам и скажет: просите прощения, ибо вы тяжко перед ними провинились.