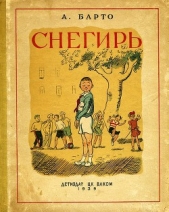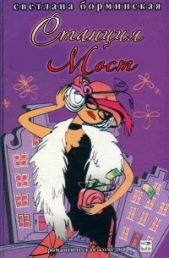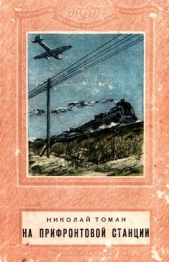Красногрудая птица снегирь
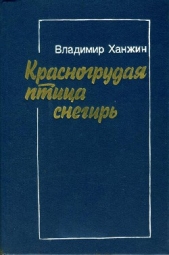
Красногрудая птица снегирь читать книгу онлайн
Железные дороги… О тех, кто связал с ними свою судьбу, вот уже несколько десятилетий пишет Владимир Ханжин. В этой книге два его романа: «Крутоярск-второй» — о героике эпохи реконструкции транспорта в 50-х годах, «Красногрудая птица снегирь» — роман, обращающий нас к сегодняшним проблемам железнодорожников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо было написано на листке, вырванном из школьной тетради. Мелкий убористый почерк, слегка наклоненные вправо буквы. Слова заняли не много места, более половины листка осталась чистой. И подпись — короткое «Ира» — стояла не отдельно, а в ряд с последней строчкой.
Ничего похожего на письмо. Даже даты нет. Как будто человек начал что-то спокойно записывать и прервался. Заурядный листок из тетради.
Оказывается, даже самое великое может являться в таком вот чертовски обыденном виде. В сущности, ее записка открывала перед Овинским целую жизнь. До сих пор Ира молчала о своих планах. Он же не считал себя вправе оказывать на нее какое-либо давление. Теперь она решилась. Она не едет, она остается. Остается здесь, с ним.
В тот день Виктор узнал, какая она бывает — сумасшедшая радость. Он убежал на самый пустынный кусочек набережной. Снова и снова перечитывал письмо, хотя уже помнил его наизусть. Он что-то шептал, смеялся, жестикулировал. Мысли, бессвязные, обрывочные и жаркие, вспыхивали и терялись. А под конец он уже и вообще ни о чем не думал. Просто ходил и смеялся, ходил и смеялся, весь отдавшись беспамятному своему восторгу.
Он пошел к Ире в тот же день, вечером. Путь его лежал через сад, раскинувшийся над рекой, на высоком ее берегу. По одну сторону от Овинского, за свежевскопанными клумбами, за старыми ветвистыми липами, виднелся истоптанный, неогороженный край берега; по другую — тянулись кусты акации, обсыпанные кудряшками молодой майской зелени, металлическая решетка забора, а за нею — улица, на которой и жила Ира.
Начался е е квартал. Осталось только три дома… Осталось только два. Пора сворачивать.
Светло-серый дом Тавровых отличался строгой красотой и тщательно поддерживаемой опрятностью. Пять окон смотрели на улицу. Наглухо завешенные изнутри тяжелыми портьерами кремового цвета, они были молчаливы, замкнуты.
Он позвонил. В глубине дома послышались быстрые шаги. Кто — Ира, мать, домработница? Шаги ближе и ближе. Щелкнул замок. Открыла Ира.
Она была не такая, как всегда. Во всяком случае, Овинский впервые видел ее такую — домашнюю, простенькую, еще более безыскусственную и милую. Длинный ситцевый халатик делал ее выше и тоньше. Зато волосы, не затянутые в косу так туго, как обычно, сильнее отяжеляли голову. Они выбились на лоб, распушились на висках. Их светлая медь лилась и волновалась.
Ира на мгновение застыла в дверях. Лицо ее густо залила краска.
— Идемте! — произнесла она почти беззвучно.
Перед ним вытянулся пустой чистый коридор. Противоположная дверь его была открыта, и Овинский видел кусочек такого же пустого и чистого, как коридор, двора.
— Сюда! — снова тихо, с хрипотой сказала Ира.
Они свернули посредине коридора и оказались в прихожей. В нее выходило четыре двери. Дверь налево, на кухню, была распахнута настежь. Из нее в прихожую падал неяркий розоватый свет вечера. Дверь направо была слегка приотворена, а две двери, расположенные прямо, закрыты.
Из кухни доносился звук капающей воды — единственный звук, который слышался в доме.
— Пойдемте пока ко мне, — сказала Ира.
Она провела его в комнату направо.
В просторной, на два окна, комнате стояли небольшой письменный стол, набитый книгами шкаф, этажерка и кушетка. Над кушеткой висел огромный, во всю высоту стены, гобелен. На кушетке, свернувшись калачиком, лежала кошка, ничем не приметная, серая полосатая кошка, какие водятся в Крутоярске едва ли не в каждом доме.
Виктор почувствовал себя свободней.
— Как математика? — спросил он. Ира готовилась к экзаменам на аттестат зрелости. На столе и на кушетке были разложены тетради и книги.
— Вроде ничего.
Она улыбнулась и поласкала кошку за ушком. Кошка блаженно вывернула вверх сонную мордочку.
— У вас такая тишина, что невольно говоришь шепотом, — сказал он.
Ира опустила голову.
— Дома никого нет, — произнесла она после паузы.
Его снова охватило волнение.
На улице проехала автомашина, и по комнате с легким зудением пробежала мелкая дрожь. Редеющий свет вечера робко пробивался через портьеры; в углах комнаты скапливались сумерки.
Сердце Овинского гулко стучало; ему отвечала напряженным биением тоненькая жилка на шее девушки. Он взял Иру за плечи и остро ощутил родниковую свежесть ее кожи.
Стройная, гибкая, почти невесомая, Ира осторожно припала к нему, и они долго стояли молча, боясь себя, но видя тот день, тот час, когда им можно будет не бояться.
Мать Иры застала их за решением задачи по алгебре. Овинский поднялся и почтительно поклонился. Антонина Леонтьевна торопливо ощупала дочь тревожным, почти паническим взглядом, украдкой скользнула глазами по комнате…
— Познакомься, мама, — сказала Ира.
Вздохнув, мать подала руку. Овинский назвал себя. Она поинтересовалась, как он оказался на Урале. Виктор ответил. Антонина Леонтьевна спросила о родителях.
Слушая их, Ира бегала глазами от одного к другому и невольно поддакивала головой Овинскому, когда он отвечал на вопросы.
— По всему видно, кубанский казак, — заключила Антонина Леонтьевна. — Один чуб чего стоит.
Виктор смущенно прошелся рукой по густой кучерявой шапке своих волос.
— Занимай пока гостя, морошка, — примирительно сказала Антонина Леонтьевна дочери. — Пойду на стол готовить.
Едва за ней закрылась дверь, как Ира сорвалась с места.
— Ой, я сейчас, одну минуточку, — бросила она Овинскому и вылетела из комнаты.
Он слышал, как в прихожей поднялась возня, как Ира, шепча что-то, целовала мать, как Антонина Леонтьевна, не то смеясь, не то всхлипывая, сказала: «Ступай уж, ступай туда! Разве можно гостя оставлять!»
Когда Ира снова влетела в комнату, желто-красные огоньки в ее глазах горели в бесчисленном множестве. Веснушки проступили ярче обычного, хотя лицо ее и даже уши, даже шея сделались алыми. «Морошка», — вспомнил Овинский и громко, с удовольствием повторил:
— Морошка!.. Морошка!..
Приехал Федор Гаврилович. Все собрались за чаем, в столовой. Тавровый завел с Овинским подчеркнуто деловой разговор. Личность гостя его не интересовала. Вопросы, которые он задавал, касались развития грузового двора, проекта надстройки вокзала, дополнительного пригородного поезда и прочего — все в том же роде. Конечно, Тавровый и без того достаточно хорошо знал состояние дела. Задавал он вопросы для того, чтобы выразить свое недовольство. И недовольство он выказывал совсем не потому, что надеялся через Овинского исправить положение. Ни руководители отделения, ни тем более Овинский, фигура на отделении третьестепенная, не в силах были ускорить развитие грузового двора или составление проекта надстройки вокзала. Все зависящее от самого отделения было уже сделано. Но Федор Гаврилович нарочно выискивал вопросы, которые позволяли бы ему демонстрировать свое недовольство, потому что вызывалось оно не столько состоянием дел, сколько присутствием Овинского.
Когда Виктор отвечал, Тавровый, неподвижный, монументальный, недоверчиво смотрел на него поверх квадратных стекол очков. И Овинский чувствовал, что выглядит перед ним цыпленком, хотя вообще-то отличался хорошим ростом и крепким телосложением.
Иногда Тавровый высказывался сам. Масштабность и мудрая основательность его суждений, соединенная с небрежно-назидательным тоном, уничтожали Овинского.
Ира и даже Антонина Леонтьевна порывались настроить разговор на другой, менее официальный лад. Но Федор Гаврилович открыто пренебрегал их усилиями, давая понять, что видит в Овинском только работника отделения железной дороги и ни о чем ином, кроме служебных дел, не желает знать и слышать.
Сразу же после чая Овинский откланялся. Родители Иры не задерживали его.
Председательствующий на пленуме, медлительный, спокойно сдержанный секретарь горкома Хромов, объявил перерыв.
Зал, словно улей, загудел озабоченно и возбужденно. Как обычно, перерыв не был для собравшихся просто отдыхом. Он нес свою нагрузку и, пожалуй, входил в общее течение пленума как его составная, по-своему важная часть. Секретари партийных организаций и знаменитые на весь город новаторы производства, директора и заведующие, работники трех городских райкомов и райисполкомов, работники горкома и горисполкома встречали, отыскивали, ловили друг друга в шумной сутолоке перерыва, чтобы что-то решить, согласовать, утрясти, уточнить, выяснить. Нечасто случалось этим людям собираться вместе, и великое разнообразие дел, забот, вопросов, которыми жили они — рабочий, мозговой, направляющий аппарат города, вселилось вместе с ними в коридоры, фойе и залы Дворца культуры.