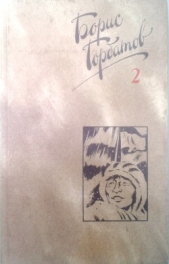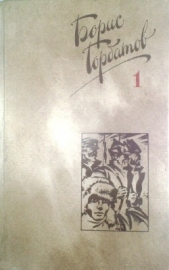Собрание сочинений в четырех томах. 3 том

Собрание сочинений в четырех томах. 3 том читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он говорил теперь горячо и быстро, и перед ним вставали страшные картины лагеря, и снова в его ушах хрипели предсмертные стоны товарищей, свист бича и вечный похоронный звон колючей проволоки под ветром...
— А вокруг всего лагеря сидели бабы... И день сидели. И ночь. Своих мужиков высматривали, плакали ж они, бабы, ох, страшно плакали! Выли! И мы начинали выть. Кто жить хотел, тот выл. А были такие — умирали молча. И это страшней всего. А я выл. Как волк воет. И все мне мерещился дом... и Антонина... и Марийка... И чем горше становилось, чем смерть ближе — тем больше я жить хотел. И жил. А как жил, чем — теперь и объяснить не могу.
— Но как же ты все-таки из плена ушел, Андрей? — снова со странной настойчивостью повторила свой вопрос Настя.
— Бабы и выручили. У немцев, видишь ли, политика хитрая. Нас в этих лагерях померло тысячи — этого никому не видно. А они одного выпустят, он пока домой дойдет — об этом звону, звону. Вот они и распорядились, что бабы могут, в случае если своего мужа или брата среди пленных разглядят, брать его к себе, на волю. Ну, справка, конечно, нужна от старосты. Да это дело легкое! Есть бабы, которые в разных лагерях до ста «мужей» вот этак-то освобождали. — Он усмехнулся. — Ну, а меня кто же выручит? Своих близко нет. А на волю, на волю хочется!.. Чувствую, помру я здесь, как щенок слепой, и никто не вспомнит. И проволока эта колючая так меня измучила, словно она мне в душу впилась, колючками душу рвет до крови. Ну вот... Я и бросил бабам за проволоку записку. Выручайте, мол, если добрая душа найдется! И свое имя, отчество, фамилию, откуда родом... — он остановился на минуту, задумался и вдруг тихо, ласково улыбнулся. — Нашлась добрая душа, Лукерья Павловна... Луша... Высвободила... Взяла меня к себе, в хозяйство... У нее без мужчины все покосилось, повалилось... — он запнулся, покраснел, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты меня, Антонина, суди как хочешь, только я с этой женщиной жил... как с женой...
Антонина вздрогнула испуганно и как-то очень беспомощно посмотрела на мужа и невольно выдернула свою руку из его руки.
— Ведь я... — пробормотал Андрей, — я ведь не знал, живы ли? Здесь ли?.. Все сейчас на земле пошатнулось, пошло враскос...
— Ничего! Ничего! — зло расхохотался Тарас. — Чего, брат, с женой стесняться! России изменил, так чего уж тут жена? Только вот что я тебе скажу, Андрей. Жена простит, она существо бессловесное, кроткое. Простит ли Россия?
— А перед Россией моей вины нет... — глухо пробурчал Андрей.
— Врешь! Врешь! — закричал на него Тарас. — Всех ты обманул! И Россию, и жену, и меня, старого дурака, и мое ожидание. — Он круто повернулся и ушел к себе, сильно хлопнув за собой дверью.
Воцарилось молчание. Грустно сидела, опустив голову на руки, подавленная Антонина. Молчала Настя. Сжалась в комочек безответная бабка Евфросинья. горько качала головой.
И чтоб как-нибудь развеять это невыносимое молчание, Андрей спросил:
— Ну, а вы тут как живете?
Ему никто не ответил. Только Настя пожала плечами. Андрей взглянул на склоненную голову жены и вдруг увидел: голова седая. Он не поверил. Еще раз взглянул: под робким светом коптилки тускло блеснули серебряные нити. «Боже ты мой! — ужаснулся Андрей. — Что же с ней сделали?» Он испуганно оглянулся вокруг. Молчала Настя. Что-то бормотала себе под нос мать. Молитву?
Вот дом — и нет дома! Те же бури и беды, что свистели над ним, Андреем, ломали, корежили его тело и душ у, прошумели и над тихим домиком в Каменном Броде, Антонину состарили, Тараса ожесточили. Все здесь с виду осталось прежним: и фотографии под тусклыми стеклами, и тихий свет лампад — а прежней жизни нет. И дома нет. И покоя нет. И счастья нет, как не было.
Андрею вдруг захотелось потянуться к жене, обнять ее, взять в ласковые руки ее бедную, усталую седую голову, прижать к своей груди, заплакать вместе: «Ну, что было — было! Ничего! Ничего! Тоня! Теперь я здесь, теперь я с тобою. Проживем как-нибудь. Переждем войну, не навеки же». Но он не сделал этого. Зачем? И сам он в свои слова не верит, и Тоня не верит. Неправда его слова.
Нет, не вырвался он из плена! Вот она — колючая проволока. По-прежнему и он в плену, и семья в плену, и весь город в плену у немцев. Душа его в плену. Все опутано колючей проволокой. Колючки впились в душу.
А у старика, у отца, душа свободна. Ее в цепи не закуешь. Ее колючей проволокой не опутаешь, бессмертную, ожесточенную душу Тараса. И сын вдруг горько позавидовал отцу.
В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...
2
В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...
Как ни рано поднялся Андрей, многие встали еще раньше. Скрипели половицы, изо всех углов ползли шорохи. Андрей встал и оделся. Антонина сделала вид, что спит. Андрей поглядел на нее и вздохнул. Вот и прошла его первая ночь дома после разлуки... Не так прошла, как мечталось... Ну что же! Все теперь на земле не так... Он вышел умываться в сени.
Там уже возилась мать. В самодельную ручную мельницу она засыпала зерна и молола их. Шестерни тоскливо скрипели.
— Это отец смастерил, — объяснила мать, заметив, что сын загляделся на ее работу. — И название атому выдумал: агрегат. А по-моему, горе это наше, а не агрегат. Одно горе, больше нет ничего...
Ставни были еще закрыты. Сквозь щели протискивался тощий и словно помятый утренний свет.
— Открыть ставни, что ли? — вызвался Андрей. — Темно, как в могиле.
— Так и живем! — отозвалась мать. — Глядеть не на что.
Теперь, утром, все дома показалось Андрею не таким, каким было прежде. На него вдруг глянуло страшное лицо нужды, вчера он ее не заметил. Он и сам не сумел бы объяснить, в чем он ее увидел: в агрегате ли Тараса, в кислых лепешках, заменяющих хлеб, или в том, что самовар пылился в углу («Значит, нет в доме ни сахару, ни чаю. Как же мать без чаю живет, чаевница?»), — но нужда хозяйничала здесь, это он увидел ясно и принял почему-то как упрек себе. Словно он, Андрей, был виноват в том, что война, и немцы в городе, и нет хлеба.
Понемногу к столу стала собираться семья — все хмурые, молчаливые. Даже Ленька глядел на дядьку исподлобья, с явным неодобрением. Дольше всех не выходила Антонина.
А когда, наконец, вышла и, странно волнуясь, подошла к мужу, он понял, отчего задержалась она: пудрилась.
Но и пудра не могла скрыть, как постарела и осунулась Антонина. Особенно постарели ее глаза, стали тусклыми, испуганными. «Плачет много», — догадался Андрей и отвернулся.
Завтрак прошел быстро и хмуро. Все молчали. Только маленькая Марийка щебетала и ластилась к Андрею.
— Ты в школу ходишь? — спросил он.
— Не... — удивленно ответила Марийка. — Теперь же немцы!
— Да, да... — пробормотал он. — Я не подумал.
Он и это принял как упрек себе: словно он виноват, что теперь нельзя Марийке ходить в школу.
— Ну, я с тобой сам заниматься буду! — торопливо посулил он дочке.
После завтрака Тарас стал собираться на завод. Торжественно вытащил свое рванье, стал одеваться.
— Что, отец на заводе работает? — удивленно спросил Андрей у сестры.
— Да... вроде... — усмехнулась та.
— Под конвоем дедушку водят на завод! — закричал Ленька. — Вот! А без конвоя он не ходит.
Его голос услышал и Тарас у себя в комнате.
— Да, да! — отозвался он оттуда. — Почет! Почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора, меня ведут на завод. Под конвоем.
— И ты служишь? — спросил Андрей у Насти.
— Я? Нет!
— А что же делаешь?
— Я прячусь.
— Прячешься? От кого же?
— От всего. От Германии. От службы. От немецкого глаза.
— Как же ты... прячешься?
— А так... Хоронюсь, не высовываюсь. У меня теперь вся жизнь в том, чтобы прятаться, — загадочно усмехнулась она.
И Андрей с удивлением и даже завистью подумал: «А они тут свою войну с немцами ведут; малую, конечно, войну, но гляди-ка, какую непримиримую».