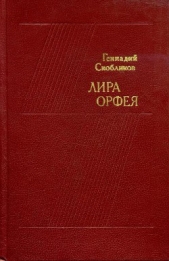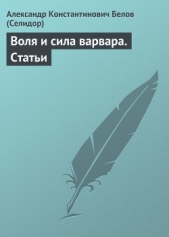Старослободские повести
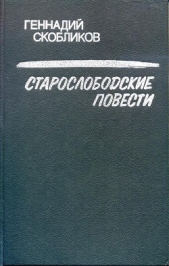
Старослободские повести читать книгу онлайн
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека — таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» — от названия деревни Старая Слободка — родины автора и героев его повестей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Знал, наверное, летчик имя крестьянина из деревни Писклово, спрятавшего его под носом у немцев, и, шагая по полю, думал, конечно, и о том, что если доберется до своих и останется жив до Победы, прилетит в эту деревню, сделает круг над болотом, где когда-то не повезло его «ястребку», а потом посадит самолет на лугу и пойдет к краю деревни, отыскивая глазами знакомую хату, и скажет тому доброму русскому человеку: «Жив, отец?! Ну и я жив. Здравствуй!..» И он сумел все, этот летчик: добрался до своих и воевал до Победы, а после войны прилетел в наше небо, сделал круг над памятным болотом, посадил машину на зеленый выгон. Только не пришлось ему обнять людей, о ком помнил он всю войну. С обнаженной головой долго стоял он и у той ракиты, — над могилой семьи Беспяткиных. И не забыл девочку, разыскал ее у родственников, спросил, согласна ли она стать его дочерью, и увез с собой.
...Два года мы смотрели в твою сторону, поле, два года ждали, когда, наконец, придут по твоей дороге н а ш и. И они пришли. По мокрому мартовскому снегу, пешие и на санях. В русских серых шинелях, с красными звездочками на шапках, с трехлинейными винтовками за плечами. В ботинках с обмотками, обветренные,мокрые, замерзшие и усталые. Мы встречали их на твоем краю, поле, мы шли рядом с ними. Мальчишки, мы боялись, что они не остановятся в нашей деревне и пойдут дальше в ту сторону, куда все эти дни спешно отходили немцы. Но, к нашему мальчишескому счастью, они остались ночевать. Они были слишком усталые, наши солдаты.
Никогда, кажется, не было нам так интересно сидеть в своей хате. Два десятка винтовок в углу у порога (их можно даже потрогать!), двадцать пар мокрых ботинок и обмоток у печки, два десятка усталых бойцов на соломе, ими самими принесенной из скирды старосты Кирюхи. Топится сырым орешником печка в первой нашей хате, топится соломой лежанка в горнице. Голодны наши солдаты, и плох у них паек, да и у нас кроме мелкой картошки и молока нет ничего. Варится в печке в двухведерном чугуне картошка «в мундире», и не едят пока свой паек солдаты, ждут. А пока они бреются, умываются снегом во дворе. Подают сестры горячую картошку прямо на пол солдатам (разве им всем усесться за стол!), ставят два кувшина молока, просят не обессудить, что нет у нас хлеба и соли. Есть у солдат сухари, есть у них соль и даже сахар кусочками. И отдают они нам часть своей соли, оделяют нас, мальчишек, сухарями и сахаром. Поели солдаты, стали разбирать и чистить винтовки, и мы горды, что отец наш тоже умеет быстро разобрать и собрать винтовку. Чистят солдаты винтовки — мы рядом: дозволяют нам солдаты протирать ветошью затворы и «собачки» и хвалят нас, говорят, что теперь их винтовки еще лучше стрелять по немцам будут. Отец нет-нет да и одернет нас, чтобы не мешали мы дядям, а дядям самим нравится возиться с нами, мальчишками, говорят: у них дома свои такие же — и дарят нам пустые обоймы. Всю ночь светит в хате тусклый каганец, стоят в углу у двери вычищенные двадцать винтовок, сушатся в печке двадцать пар ботинок и обмоток, крепко спят на соломе у печки двадцать усталых наших солдат, — а на деревне не смолкает не слыханная нами два года гармошка, и в полный голос поют — не напоются, смеются — не насмеются деревенские девчата, — и не было, не было для нас лучше той ночи!
Ушли днем солдаты гнать немцев дальше. Осталась у нас забытая ими зеленая плащ-палатка — через год шестнадцатилетняя Маруся сошьет мне из этой плащ-палатки штаны.
...И опять мы смотрим на твою дорогу, поле, по которой уходит на войну наш отец: в полушубке, в лаптях, белый запасник с едой за плечами;
и еще раз смотрим на твою дорогу, поле, по которой уходит на войну наша старшая сестра Наташа;
и еще два года будем мы смотреть в твою сторону — ждать, когда, наконец, вернутся они.
...Белое поле, щетина жнивья из-под снега, поземка. Я тоже много студеных зим походил по тебе, белое поле: в шахтерских калошах или в лаптях, в школу или отыскивая мерзлую свеклу в пустых колхозных буртах. Я тоже много поползал на коленях по тебе, когда мы с утра до вечера рвали по колхозному просу траву, чтоб прокормить корову; я тоже не один год колол твоим жестким жнивьем босые ноги и руки, когда мы после скирдовки украдкой собирали тут все равно пропадающие колоски — и часто, вытряхнув из мешка собранное, спасались бегством в лог или в кусты от верхового объездчика. Видишь, есть и у меня личная память о тебе, поле, и теперь, когда я приезжаю сюда и иду твоей дорогой от станции до деревни, — я не тороплюсь тебя пройти...
VII
Встретился на улице с моей первой учительницей.
— Здравствуйте, — говорю.
— А... Здравствуй, здравствуй! — И ласкательно называет меня по имени.
Останавливаемся, смотрим друг на друга. Моя первая учительница заметно постарела, лицо в морщинах, глаза поблекли, недостает зубов. Одета в черную фуфайку, концы серого полушалка туго обмотаны вокруг шеи, в руках старая хозяйственная сумка.
Вижу, она искренне рада видеть меня, бывшего своего ученика, ей интересно знать, где я теперь, кто я, что я... И я тоже искренне рад видеть ее, мне тоже интересно знать, как она живет-поживает, где и как устроились ее дети.
Стоим, беседуем.
— Стало быть, ты теперича вон иде, аж на Урале! Это же, должно, далеко?.. Ну, а чем же ты работаешь? На-кось! Молодец!..
Как она живет? Да ничего, жить можно. Как не дали учительствовать (в голосе обида), работала техничкой, делопроизводителем. Теперь — в интернате. О детях рассказывает: сын в армии на шофера выучился, женился, живет в городе на Волге, у дочерей тоже все в порядке.
Стоим, беседуем.
Как я хорошо знаю мою первую учительницу, как узнаю эту ее манеру разговаривать. Ни слова не пропустит она из моих сдержанных ответов, на каждое прореагирует: то удивленно откроет рот, то плотно сожмет губы, прижмурит левый глаз и понимающе кивнет, то высунет язык и покачает головой из стороны в сторону... Манера ее — таким образом подзадорить собеседника, подтолкнуть его на подробности. Сейчас ее интересуют все наши, не обижают ли невестки отца...
У всех все хорошо, говорю, никто никого не обижает: не по-христиански это, говорю, обижать других. Она понимает как шутку, смеется. А я и не шутил.
— Ну и слава богу, — говорит она, показывая свою искреннюю радость, что все у нас в порядке. — Усе теперича до дела дошли. А как приходилось-то, господи! Да еще без матери... Помнишь?
Уж лучше б она не трогала, как приходилось нам!..
— Как же не помнить, — говорю, — все помню...
— ...А ты чего вертишься!
Именно так, с ударением на ты́. Дело совсем не в том, что я верчусь за партой — ее злит, что верчусь именно я́. Голос у учительницы низкий и одновременно какой-то металлический, холодный. А в классе — во второй нашей хате — и без того холодно, на окнах на палец инея, зеленоватого, затвердевшего, исчерканного и изрисованного нашими ногтями.
Я прячу руки под стол, мгновенно съеживаюсь, затравленно зыркаю на учительницу, даже перестал потирать друг о дружку босыми ногами, только, оторвал их от ледяного земляного пола, держу на весу — и от этого икры сводит судорогой. А она стоит надо мной... в толстом черном полсаке, в теплых бурках с калошами, в толстой черной шали. Впившиеся в меня серые глаза, одутловатое лицо, вздернутые твердые ноздри — все сливается в одну уничтожающую меня ненависть; и еще руки, готовые больно схватить за плечо и встряхнуть...
Знаю сам: учительница ненавидит меня и не скрывает этого. Знает это и весь класс, даже два класса, потому что и первый и третий занимаются вместе. Ребятам, конечно, что! — никто и не замечает, как она крикнула на меня. Но за что она так ко мне, на это я никогда не сумею ответить: ненавидит — и все тут. Я знаю из разговоров, что мать наша не любила эту учительницу, но что сделал ей я?
Она все стоит надо мной, и я наконец догадываюсь встать. Вскакиваю, поддерживаю штаны, опасливо слежу за ней, а сам стараюсь незаметно прикрыть рукой свой листок — на нем не написано и половины того, что было задано. Правая рука с ручкой под столом.