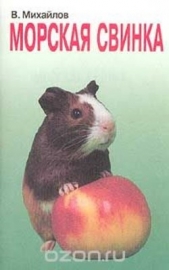Повести

Повести читать книгу онлайн
Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.
В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».
Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Аржанца Толя тоже знал мало. Комиссар одного из пяти отрядов их бригады, при панах — подпольщик, сидел в тюрьме. Покуда и все. К тому же Толя, который жизни своей вел счет больше на месяцы, чем на годы, а партизанскую службу считал пока на дни, чувствовал себя при начальстве неловко. Правда, неловкость скоро прошла. Комиссар снял шинель и ушанку и — в домотканой, до шеи застегнутой куртке, правую полу которой оттопыривал наган, — присел к столу, поправив широкой рукой нехитрую темно-русую прическу.
— Антось Данилович, — обратился он к деду с простодушной улыбкой, — а про Антония Печерского вы нам, пожалуй, загнули. Насколько я знаком с божьим календарем — святой этот родился не сегодня. Сегодня как будто святого Сергея.
Он ткнул большим пальцем левой руки себя в грудь:
— Не мои ли это именины?
Хлопцы опять захохотали. Деда это, однако, не смутило.
— Оба мы с тобой, как я вижу, здорово знаем календарь. А может, сегодня какого-нибудь Максима или Толика. Так вот мы по этому случаю…
Старик порылся в изголовье своих нар и поставил на стол бутылку.
— Может, скажешь, что я и это украл из бригадного энзэ? Ты, грамотей, говори, да иной раз думай, что говоришь… Ну, будь, Сергей, здоров!
Выпили по очереди из одной посудины и стали закусывать.
Дядька Антось недаром прожил долгий век: он хорошо знал, как сближает людей хлеб да соль. Они отламывали толстые куски еще не очень черствого хлеба, макали их в горячее душистое сало, ели не спеша, с толком, как умеют есть только те, кто хорошо знает цену и дорого доставшемуся хлебу, и тяжелому труду.
Говорили опять о том, о чем говорила вся страна, весь мир, — о великой радости долгожданной победы, что не так давно на века слилась со словом «Сталинград».
— Теперь он, фашистская стерва, покатится, — видно, не в первый раз, но все с тем же удовольствием говорил Аржанец. — Кубарем покатится назад. Теперь и нам, между прочим, веселей. Долби под рельсом и долби, подставляй ему ножку, чтоб спотыкался. Сегодня заряд, а завтра — два.
— А толу-то где наберешься?
— Подкинут, дядька Антось. Толу хватит, охоты тоже. Верно, Климёнок?
Он даже подмигнул.
— Верно, товарищ комиссар.
Толя сказал это, казалось, как положено — по-взрослому, по-солдатски, и смотрел на начальство, кажется, уже совсем смело. Словно на добродушного дядьку постарше.
Говорили и о делах совсем обыденных: дед вспоминал о давней поре, когда он был плотогоном, Максим ловко наводил его на уже известные ему веселые случаи, и все смеялись. И тепло было от этой простой и вместе с тем нежданной для Толи радости.
Когда же Максим, не спросив у отца, не холодно ли ему в одной рубахе, принес с нар кожух и накинул старику на плечи, Толя не выдержал… Все это было так понятно: тепло там, где натоплено, хорошо там, где собрались добрые люди, а все-таки мальчик не мог удержаться, заплакал. Если ж в этом была виновата и чарка, так дай нам боже пить ее почаще…
…Студент с необыкновенной живостью видел сейчас эти мальчишечьи слезы: он даже глаза зажмурил и тряхнул головой, чтобы вернуться к действительности. Все еще стоя в лодке, он огляделся вокруг.
Слева, почти до самого леса на горизонте, расстилались луга. На покосе уже не колко — бескрайнюю равнину, на радость глазу и босым ногам, покрыла светло-зеленая мягкая отава. На правом берегу — большая деревня, которую Толя, очнувшись от задумчивости, только сейчас, кажется, заметил.
Первые деревенские жители, встретившиеся ему здесь, на реке, были утки — с сытым гомоном и плеском они жировали и купались; их пестрая стая покрыла весь широкий плес. Часть из них, не подпустив лодку слишком близко, взлетела и, легко, с посвистом разрезая воздух крыльями, понеслась над лугом.
«Дикие», — подумал Толя. Не удивился: видел это и дома.
Жаркое, спокойное приволье.
И правда — «пусто летом в наших селах», — вспомнилась строчка из школьного стишка. Сельмаг весь день на замке, потому что продавщица тоже ходит за жнейкой. Сквозь открытое окно колхозной конторы далеко разносится деловитое пощелкивание счетов и — время от времени — то девичий смех, то тихая песня: урывками, ведь за работой! На теплом песке единственной улицы — следы грузовиков, телег и босых ножек, там и сям припорошенные то сеном, то первым оброненным колосом. Как славно сейчас опустить в самую глубь колодца клюв старого журавля, вытащить из темной, страшноватой бездны тяжелую деревянную бадью, расплескивая на босые ноги студеную воду, припасть пересохшими губами к мокрой сосновой клепке! А разве хуже забраться в густую листву вишни, отыскивая особенно сладкие — последние, проклеванные скворцами и подсохшие, — ягоды? А бабушка или мама ищет тебя, кличет с порога, словно ты ей невесть как нужен, и именно сейчас…
Толя опять улыбнулся. Будто нарочно, как воплотившаяся мысль, на огороде между грядок стоит старушка и, глядя из-под руки сюда на реку, зовет:
— То-лик! То-о-лик! А-у!..
А Толик — еще один незнакомый тезка студента — и в самом деле пропал: не идет… Да вот он где, черноногий, неугомонный неслух! Толя увидел его раньше, чем бабушка: мальчик лежит на траве, глядя в небо, загорелый, в выцветших от солнца трусах, без шапки. Он встал и недовольно кричит:
— Ну, чего вам? Иду-у!
«Иди, иди, голыш, не огрызайся», — с теплой и чуть грустной усмешкой мысленно сказал студент. Порадовался за мальчика и даже позавидовал, что есть у него кого слушаться, есть кому и надерзить сдуру… «А о чем ты думал, тезка, глядя в небо? Верно, следил за полетом аистов?»
Толя перестал править, шест потащился по воде, чайка пошла медленнее, а он вскинул голову и загляделся.
«Ну конечно же, вот они!» — улыбнулся Толя, совсем по-детски довольный. Под высокими белыми облачками кружились аисты. Это на них смотрел разморенный зноем, погруженный в мечты мальчуган.
Чайка тем временем решила отдохнуть — сошла на повороте со стрежня и осторожненько, тихо, даже, кажется, с хитрецой ткнулась носом в колышущуюся гущу камыша.
Это напомнило Толе, что надо продолжать путь. Он сел на корме, оттолкнулся от берега на быстрину и начал работать шестом. Один на воде, между двух живых стен тростника, подымавшегося по обе стороны извилистой реки, — студент опять задумался.
…Назавтра после дедовой чарки хлопцы ехали «в район» вдвоем: Толя возвращался к своим, в ту деревню, где сегодня дневала разведка, а Максиму, как он сказал, понадобилось что-то для газеты. Или даже, кажется, он и не говорил ничего, а просто подъехал утром к землянке разведчиков и, не сходя с коня, как тот казак в песне, постучал сложенной плеткой в широкое и низкое, будто в хлеву, оконце.
Толин Сивый стоял под поветью один и по милости дядьки Антося согревался овсом. Он охотно побежал вслед за черной Максимовой Лялькой. Разведчик только наклонял голову перед еловыми лапами да ветками берез, с которых, чуть заденешь, щедро сыплется иней.
В то тихое утро, с легким морозцем после оттепели, с ясной румяной зарей на востоке, с красными, кажется, даже на взгляд теплыми снегирями на серебряных ветвях, с хрустом снега и стрекотаньем сорок — все для Толи было полно нового, еще не изведанного, радостного смысла. Черная стена, что резко отгородила мальчика от детства, теперь, после ночной беседы в землянке, точно обвалилась, стала ниже. Мальчик сразу и повзрослел, и как бы впервые после одиночного заключения вышел на ясный солнечный свет. Будет ли оно, это черное, страшное, возвращаться? Конечно, будет. Но теперь между ним и Толей есть уже что-то новое, светлое, на что он может опереться, к чему может прильнуть так больно раненной душой. Как назвать это новое? Есть, конечно, такие слова, да не хочется их искать. Лучше просто молчать, не говорить никогда и никому о том, что было в землянке. Он знает, что и они, при ком он заплакал, никогда не коснутся этого словом.
— Ну что, погреемся?
— Эй вы, пошли!
И Толе весело — и оттого, что он научился наконец ладно сидеть в седле; и оттого, что сегодня вечером они опять пойдут в дальнюю разведку и он попросит командира пустить его первым, потому что не боится вражеской засады; и оттого, что вот скоро они приедут с Максимом в Копачи, ближнюю за Неманом деревню, и зайдут к его матери и младшей сестре.