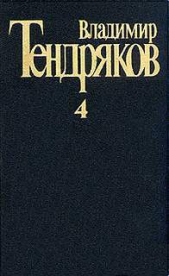Апостольская командировка. (Сборник повестей)

Апостольская командировка. (Сборник повестей) читать книгу онлайн
В сборник повестей известного советского писателя вошли произведения, поднимающие острые мировоззренческие вопросы, проблемы нравственности, гуманизма.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В конце концов нам удалось отыскать изолированную комнату в шесть квадратных метров. Общий длинный темный коридор, двери, двери по обеим сторонам, ведущие в такие же, как наша, клетушки. Уборная, похожая на вокзальную, этажом ниже, а общая кухня напоминала доисторическую племенную пещеру. В ней с непривычки можно легко заблудиться среди густо навешанных простыней и кальсон. Мы с Ингой год наслаждались покоем — наши покладистые хозяева обитали в соседнем доме по этой же улице, регулярно брали плату, ничем больше не интересовались, запретами не связывали. На откупленных шести квадратных метрах мы могли делать все, что хотели, — читать, писать, приглашать гостей, спорить…
Именно в то время у Инги появилась гитара, именно в то время по Москве впервые зазвучал голос Булата Окуджавы. Он не пел с эстрады, и афиши с его именем не развешивались по заборам, он пел в кругу близких друзей, и песни его выходили на улицу, добирались через длинный и темный коридор до нашей тесной комнатушки. Перекинув ногу на ногу, подняв плечо, недоуменно подняв одну бровь, с горячим румянцем на лице (только что стояла у плиты, жарила гостям яичницу) Инга «баритонствовала» под Окуджаву.
У Инги глаза серые в голубизну — две вечерних моих звезды. Я любовался ею.
Но через год у нас родилась дочь. И ни читать, ни писать, ни встречаться с гостями — пеленки, ночные горшки, ванночки для купания, детский крик, бессонные ночи. И гитара забыто висит на стене, и где-то поет Окуджава новые песни, но они уже не пробиваются к нам. Все книги втиснуты под стол — мешают. Постоянно мешаю и я, мне нет угла, куда бы я мог забиться. Инга в неряшливом халате, с осунувшимся деревянным лицом, с воспаленными, раздраженно блестящими глазами — «две вечерних звезды — голубых моих судьбы…».
Тогда я почувствовал, какое наказание — люди. Дома для меня не было места, по дороге на работу я должен втискиваться в битком набитый троллейбус, на работе постоянная суета, голоса, голоса, голоса, требующие, спрашивающие, просто нарушающие мое одиночество. Я изредка оставался по вечерам на работе, мог сидеть за столом, ничего не делая, не шевелясь, впитывая целебную тишину. Но это были минуты предательства, дома билась с ребенком Инга… Мне нет места дома, но я необходим там, без меня Инга не может даже выскочить на нижний этаж в уборную, дочь ни на минуту нельзя оставить.
И вот дочь выросла из пеленок, встала на ноги, сделала первые шаги. Нашлась старушка, согласившаяся за ней присматривать. Инга снова пошла на работу. И у меня удачи, меня выдвинули заведующим отделом в журнале, который читают во всех уголках страны. Я еще не член редакционной коллегии, но к моему слову прислушиваются. И наконец-то случилось долгожданное, вымечтанное — нам дают квартиру в новом доме. Две комнаты, обильно заполненные воздухом и светом, третья комната — кухня, только наша кухня, с нашей плитой, никто из чужих не появится здесь, не развесит пеленок.
В первую же ночь, когда Инга с Танюшкой уснули в соседней комнате, я не выдержал, тихонько встал, пробрался в ванную, включил свет. Ванная комната была самой завершенной, уже полностью «меблированной». Она сверкала стенами, облицованными кафельной плиткой, никелем кранов и певучим глянцем самой ванны. На ванну нельзя было досыта насмотреться, взгляд мог скользить и скользить без конца, отдыхая на ровной белизне, покорно следуя текучим изгибам. Без единого острого угла, ласковая, успокаивающая — одухотворенный сосуд. В доме шли еще какие-то доделки, еще не успели подать горячую воду. Я забрался в холодную ванну, сел и просто представил себе эту горячую воду, с морским зеленоватым отливом, заливающую меня…
Тут, ночью, в холодной сияющей ванне я подумал: вот оно, нашел! Кончилась унизительная борьба за существование, из нее я вышел без особых потерь. Здоровье мое не надорвано, ни мое, ни жены, ни дочери. Жену я люблю, она меня тоже. Танюшка греет нас обоих, она уже читает наизусть «Где обедал, воробей?», потешно пляшет «барыню-сударыню», помахивая платочком, приказывая при этом: «Хлопайте все!», по утрам подымается с постельки всклокоченная, румяная, с сияющими глазами. И работа моя содержательна, интересна, никакой иной не хочу. И десятка два статей у меня на счету… Я нашел основное счастье. Жизнь поставлена на рельсы, теперь остается только катиться вперед.
Ночью в холодной сияющей ванне я обмирал от полноты жизни. Простой душе мнилось простенькое — гладкие рельсы до могилы.
Билет до Новоназываевки.
Тощие перелесочки, охваченные пожаром обновленной зелени, убегающие по болотам телеграфные столбы, ленивой каруселью просторные поля, перепаханные, влажные, обогретые, грязные проселочные дороги с мающимися на них грузовиками. Наползал и уходил в прошлое будничный мир за немытым вагонным окном.
Я лежал на верхней полке, а внизу — солидный, как судебное разбирательство, разговор.
Женщина в потертой вязаной кофте, висящей на плоском ссохшемся теле, рассказывала шелестящим голосом:
— Говорю ей: о сынишке хоть заяви, отец он ему как-никак. А она: «Для меня и для сына такого человека нет!» А сама-то, господи! Сына, слова дурного не скажу, обиходит — вправду сказать, картиночка. У самой — глаза одне, я глаже на вид-то, а уж во мне какая гладь, сами видите. Образованная, а туфли драные, рубах нижних нету…
Мы давно уже осведомлены в подробностях нехитрой, уныло привычной и все-таки не до конца понятной истории — семья развалилась. Она, ходящая в драных туфлях, не имеющая нижних рубах, — родная дочь этой иссушенной заботами женщины. Был он, да чем-то не понравился ей, хоть не пил, не буянил, худо-бедно зарабатывал, деньги с получки «до копеечки отдавал».
— Его не виню. По всему видать, он не из прынцыпиальных. Прынцыпиальные-то самые вредные — мутят жизнь. Все не так, все с закавыкой, ухо локтем почесать норовят. У меня на них глаз что ватерпас, осечки не дает…
Осуждает категорично увесистый, сытый бас — принадлежит крутоплечему хозяину нижней (подо мной) полки. Это рослый, плотно сбитый человек с мясисто-красным, губастым лицом, водянистыми голубыми глазками. Ему жарко от собственного полнокровия, разделся до майки, открыл обильную веснушчатую плоть, загромоздил яловыми сапогами проход. От него, как от кавалерийской лошади, остро пахнет потом и кожей.
— Ты дочь мало учила, оттого у нее и завелись в голове, что воши, прынцыпы. Зудят, покою не дают ни себе, ни людям.
— Как же мало учила? Шестнадцать годов все в учении, институт окончила.
— В институтах жизни не учат. Жизнь родитель преподай. Вот у меня двое — сын пока в школе, дочка, считай, невеста. Они без фокусов-мокусов, сами себя не укусят и другим не дадут. Учил их, не гладил, даже ремнем особо не угощал, сразу усвоили: у отца глаз что ватерпас, осечки не дает.
В густом, проваренном где-то в глубине желудка голосе — железное убеждение, что он, хозяин такого голоса, лучше всех, умнее всех, всех правильнее. Любой и каждый может легко ошибиться, но чтоб ошибся он — пусть в малом, — допустить нельзя, преступно и думать. И это не самовлюбленность, нет, даже не самодовольство, это просто полнейшее отсутствие воображения.
Обычно такие люди обладают могучим здоровьем, незаурядной физической силой. Они никогда в жизни не болели даже насморком, не представляют, что можно испытать не только духовные — где уж! — а даже телесные недомогания, что существует на свете такая вещь, как страдание. У самих не случалось, вообразить не дано, а потому и не должно быть, презирай тех, кто на меня не похож.
И кто осмелился возразить такому? Тот, кто похож, согласится, несхожий, чувствуя к себе искреннее, никак не наигранное презрение, без труда поймет, что возражать бесполезно, нет таких доводов, что сломят железную убежденность: «У меня глаз что ватерпас, осечки не дает». А потому таких людей окружает молчаливое согласие, ничто до них не доносится извне, живут внутри своей на зависть здоровой, непробиваемой плоти, как в глухой темнице. Живут и блаженствуют, бесстрашно радостны.