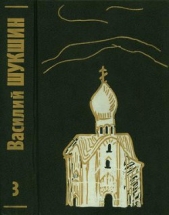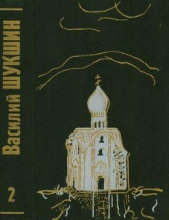Советский русский рассказ 20-х годов

Советский русский рассказ 20-х годов читать книгу онлайн
В книге публикуются рассказы 20-х годов советских писателей. Среди авторов А. М. Горький, М. М. Пришвин, М. А. Булгаков, М. М. Зощенко, Б. А. Пильняк, Б. А. Лавренёв, Ю. Н. Тынянов, Е. М. Замятин, Ю. К. Олеша и др.
В публикуемых рассказах воплощены различные стилевые манеры, многообразие молодой советской литературы.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.
Так и тут — он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.
— Допросили, Максим Семеныч?
Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.
— Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвили. Зовут Еленой, и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.
И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянущий жар у него прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.
— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.
— Очень рад. Вы, так твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее… У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?
Связь тут — красное знамя, да и то источили ветры и дожди.
Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!
Омехин подошел к ветхой, словно истолченной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.
— Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Зашивай теперь.
— А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь, весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим…
Испитой, бледный, как его старая потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.
— Я совсем немного, братишки, одним глазком, — умолял хилый парень. — Дай-ка, ну-у…
Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:
— Ай, что за женчин… Все только пундрится и мундрится… Столпившиеся захохотали:
— Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што…
— Полька она.
— Может, и еврейка, только белая.
— А муж генерал, говорят. Его не поймали.
— Ха, что ей муж? Его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот черт баба — в штанах, с ножом, а рожа крашеная…
Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.
Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.
— Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят.
Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.
— Сплошь пундрит, — сипло продохнул кто-то позади.
Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.
Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.
— Куда вы смотрите-то?
— А ты пониже, пониже, брат.
Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее — длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая плоская голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза, или ресницы хватали до бровей.
— Ссс… скоты… — скорее свистнула, чем произнесла она. Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.
Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.
На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейки.
Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.
— Допросили?
— Собираюсь, — ответил Омехин.
— Может, препроводить ее при письме? Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?
Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:
— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем… Да тут лавочка у ней, дальше коробки с пудрой не двинется. Да… Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу… — повторил Омехин.
Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыхания, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стенке мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно не удивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.
— Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому…
Палейка вдруг круто, по-военному, повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.
Омехин крикнул уже вслед ему:
— Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли…
Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.
— В лесу надо поговорить, — через плечо сказал ему Палейка.
— В лесу?
— В лесу. Здесь неудобно.
Глава четвертая
Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.
«Хорошее место для могилы», — подумал он.
Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.
…Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст, по меньшей мере. Собачий перегон — так называются пять верст…
Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы — как палатки, в которых спит смерть.
Одни ледники разорвали желтое небо.
Ледники холодом своим смеются над пустыней.
…К горам, что ли, он идет?
…Не дойдешь, брат, в такой тоске.
…Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит без того сухие губы. Птица у меня на родине, в Лебяжьем, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской…
Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю. Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь — подумал с неудовольствием кустарник.
Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.
«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» — хотел было сказать он и, как всегда при речах, потер он оземь и согнул правую ступню.