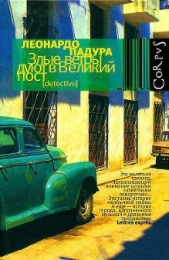Далекие ветры
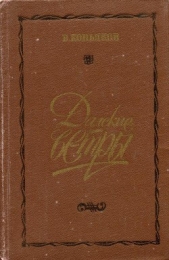
Далекие ветры читать книгу онлайн
Вошедшие в эту книгу новосибирского писателя В. Коньякова три повести («Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и «Димка и Журавлев») объединены темой современной деревни и внутренним родством главных героев, людей творческих, нравственные искания которых изображены автором художественно достоверно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что, Николаевна, по хозяйству?
— Убиралась… Ты, Сереж? — она присматривалась к его лицу, словно к пятну. — Баню сегодня топим. Сама-то с Проскуткой сейчас парится.
Она подумала о чем-то.
— Что-то я разделась. Они холодной воды просили. Вслед кричали, а я запамятовала.
Сергей вдруг представил двадцатилетних молодух в пару, в темноте бани, при чадной коптилке, их хлопотливую безмятежность, и ему захотелось войти к ним молча, деловито, обыденно, не дав опомниться, поставить ведра, поправить шапку и уйти.
Бабка уже оделась и, придерживая шаль, наклонилась к ведрам.
— Николаевна, — Сергей перехватил дужку, — дай-ка, я отнесу.
Старуха уставилась на Сергея, в глазах ее проснулось озорство:
— А неси.
Баня завалена снегом, и короткая дорожка к ней прорыта ровным срезом по стенам. Выкинутый снег высоко лежал над головой. В предбаннике, в углу, настлана солома. Из щелей маленькой двери валил пар, и близко пахло задымленными бревнами. Из отдушины над головой слышались шлепки распаренных веников.
— Мам, ты? — слышится голос Натальи. — Прасковь, ты ближе, прими ведра. Вот пар! Аж дыхание захватило. Ма, стой, мы дверь откроем.
Сергей вваливается с ведрами в колышущийся жар.
Язычок коптилки, отрываясь от фитиля, запрыгал, сваливаясь. Заходили шаткие тени на полке, на черных стенах. Резаный крик несется с лавки. Потом спокойнее:
— Ты что, очумел, охальник… Прасковь…
Прасковья стоит, не трогаясь с места:
— Сереженька… Вот спасибо. Принес… Теперь раздевайся. С нами мыться.
Она только что парилась. Исхлестанное ее тело исходило жаром.
— Ой, да холод от тебя какой добрый да какой желанный. Поостудиться хочется. Шубу-то расстегни.
Она прильнула к нему, обняла и горячее тело промокнула о его рубашку. Плотный жар под потолком уже сдавил голову Сергею.
— Наташк, плесни ковшик на каменку, — вдруг выкрикивает Прасковья, — я его подержу.
Сергей отрывается от ее рук, выскакивает на улицу. Пока идет, мокрая его рубашка мгновенно набирает холод, коробится. Бабка ждала его.
— Отнес?.. Никак, к ним заходил? Жару-то у них там много? Ну, посиди, скоро Матвей будет. Аль домой торопишься? Я пойду, их проведаю. А то они даксь побоятся сюда на огонь прийти, пока ты здесь.
Сергей шел домой, плотно запахивая на груди шубу, и улыбался. И было у него чувство какого-то беспокойства, что не он, а над ним посмеялись.
X
Мороз по утрам пахуч. Прибитый за ночь снег Сергей режет лопатой и откидывает кубами от ворот.
— Посторони-и-и-сь!
Дорога еще не наезжена. Упряжка гусем проскочила мимо. Снег от копыт глухо бьет по головкам саней. Кони, еще не успевшие вспотеть, обындеветь, не свободны, не на полном бегу. Они в постоянной неудержимой тяге. Натянутые вожжи держат, гнут им головы, будто ломают острие их бега. А стоит только вожжи приспустить, головы прямятся, тяга их движения усиливается, и кажется, будет она беспредельна.
— Э-э-э!.. — свистят полозья, и блестит санный след.
Рано, чуть свет, мчится санная упряжка на базар. Какие большие калачи у сибиряков! Белые, замороженные. Они возят их продавать в плетеных торбах.
XI
— Сереж, больше у меня ни к кому так душа не лежит. Посмотри, какой он у нас баский.
Жена держит младшего на руках, поправляет у него на животе ситцевую рубашку.
— Крестной ему не хочется брать кого попало. Пусть Прасковья Ваганова будет. Она наша, малевская. И красивая, и песельница. Мне она глянется.
Сергей вспомнил, как он возвращался ночью от Мысиных, носил воду в баню, как думал о Прасковье, как досадовал.
Жена все говорила и говорила, что Прасковья хотя и моложе ее, а подружка, и она когда еще загадала, что Прасковья им кумой будет.
Сергей давно не видел соседку и не знал, что разговор о ней будет так желанен ему.
Он целый день тискал и подбрасывал Митьку.
— Мне что… Давай… Твоя же подружка…
Радовался показной радостью и почти безразлично заключал:
— Хорошая у меня кума будет.
Крестить ездили в соседнее село. Там, на далеком яру, из-за леса видны темные купола церкви.
Вечером собрали гостей. Дуня загодя наставила капусту с конопляным маслом, шаньги с творогом, стружни. Самогону две четверти на лавке полотенцем прикрыли.
Липат, тоже малевский мужик, с гармошкой пришел. Гармошка нахолодала на морозе. От нее долго шел холод. Митька сел возле нее на лавке, трогал отпотевший перламутровый узор на планках.
Прасковью Сергей не узнал. Кофта на ней атласная, высоко на шее застегнута, как зашнурована. Длинная до полу юбка лаковым ремнем подпоясана. Незнакомый наряд этот сделал ее нездешней и чинной.
За столом Прасковья выпила, развеселилась, стала помогать Дуне, чему Дуня больше всего обрадовалась. А Сергей все помнил о ее смехе в бане, Прасковья улыбалась, догадывалась, смотрела на него и не отворачивалась.
— Да не отставляй ты рюмку, кума, — ласкалась к ней Дуня. — Ты же теперь нам родня.
А Прасковья начинала петь и вдруг, дурачась, переводила песню на шутовской лад. Она знала, что голос ее хорош, что с песней она может обращаться вольно, играя, песня будет все равно мила. Только сегодня ей, Прасковье, хочется ее вот так подать.
— Что-то я к тебе никак не подлажусь, — сокрушалась Наталья.
— Это гармошка мешает. Не туда уводит. Правда, чудно. И звонкая, и пуговиц много, а голосу не хватает.
хорошо начинала грустную песню Прасковья. Когда все настроились впечатлением далекой России, Прасковья приостановилась и притворно сообщила конец песни:
Прасковья веселилась, а веселье ее было какое-то нервное, как в горячке.
— Э… Да не слушай ты их, — образумил Матвей Липата. Тот, мучаясь, подыгрывал песне на гармони. — Бабы, они бабы и есть. Они сегодня дурят, черти. Тебя как подменили, — улыбался Матвей Прасковье.
Он веселый был, Матвей. Умел хорошо смеяться.
— Кума, пойдем спляшем.
Липат на гармошке громко наяривал, а Матвей вылез на круг и топтался. Он не умел плясать, но разводил руками так, так сиял лицом, радовался, и такие при этом у него были глаза, что казалось, он заразительно и здорово пляшет. Женщины загорались и начинали кружиться вокруг него.
На Прасковье блестит атласная кофта. Вместе с Натальей она начинает передразнивать чьи-то пляски. Подпирают руками бока, сваливают головы набок, кружатся и, устав, вместе падают на лавку и хохочут.
Прасковья вдруг останавливается, удивляясь:
— Что-то сегодня со мной? Ведь знаю, когда так смеюсь, — всегда не к добру. Кума, доливай еще.
Было уже за полночь, когда зашел в землянку старик Ваганов. Зашел с недобрым лицом и, пока стоял у двери, лица так и не расслабил.
Сергей усаживал его за стол. Он не сел и стакан с самогоном не принял. Прасковья, увидев его, сразу подобралась.
Свекор нашел ее глазами, сказал:
— Ты, девка, не запозднилась? Дома ребенок не ухожен, а тебя не позвать — дом забудешь.
Прасковья встала, не поднимая глаз.
— И правда, засиделась, — сказала она и заспешила к дверям мимо свекра.
— Тебя одну и слышно. Не добро…
Старик, будто, кроме Прасковьи, никого и не увидел, пошел следом.
Сергей отставил налитый стакан на скамейку, шагнул за ним.
В темноте старик придержал его спиной, преградил дорогу.
— Осади-ка… Ретивый больно…
Старик стоял на верхней ступеньке.
— Еремеич, не по-соседски, — сказал Сергей. — Не по-соседски, Еремеич. Сам погнушался, и сноху мордуешь…
Старик наклонился, уперся мягкой бородой в лицо Сергея, строго предостерег: