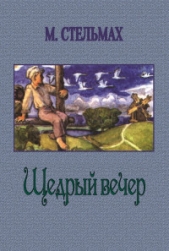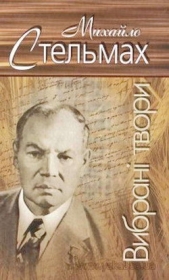Четыре брода

Четыре брода читать книгу онлайн
В романе «Четыре брода» показана украинская деревня в предвоенные годы, когда шел сложный и трудный процесс перестройки ее на социалистических началах. Потом в жизнь ворвется война, и будет она самым суровым испытанием для всего советского народа. И хотя еще бушует война, но видится ее неминуемый финал — братья-близнецы Гримичи, их отец Лаврин, Данило Бондаренко, Оксана, Сагайдак, весь народ, поднявшийся на священную борьбу с чужеземцами, сломит врагов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хорошо сказали вы обо всем, кроме модельной обуви. О чем-то таком думала и я. Только все ли поймут вас, романтику вашу? Недоверчивый еще наш крестьянин, ох какой недоверчивый.
— Не все, Мирослава, сразу приходит. Будет правда — придет и вера! Лишь бы только ложь не взяла нас за горло. Кто бы из крестьян еще несколько лет назад поверил, что их дети прямо в полотняной одежде, в лаптях, а то и босиком пойдут в высокую науку? Будь моя воля, я из чистого золота поставил бы памятник тем людям, то есть большевикам, которые догадались по разверстке комитетов крестьянской бедноты посылать учиться малограмотную молодежь на рабфаки, а потом и в институты. Там как целину пахали — тяжело давалась нам наука, но мужицким упорством, бессонницей одолевали все и выходили в люди. Такого ни в каких кембриджах и оксфордах не бывало. Ты же не можешь представить себе, чтобы порог Оксфордского университета переступил парень в отцовской кирее и лаптях!
Мирослава бросила взгляд куда-то вдаль, засмеялась.
— Тоже хорошо! А сами вы получаете радость от своей каждодневной работы? Или тянете ее, потому что привыкли тянуть?
— Спрашиваешь, не черный ли я вол, что тянет свое ярмо? Эта мерка не для меня, потому что чувствую в руках жажду труда, кажется, понимаю и радость поля и радость хлеба, но не хуторянскую, где все, даже бессмертное зерно, охраняется полупудовыми замками и собаками, а ту, от которой яснеют людские глаза и ширятся надежды. Ты, конечно, слыхала старинную легенду о евшан-зелье, о безграничной любви к своей земле. Так оно во мне есть, это евшан-зелье. Такая любовь, от которой крылья на плечах рубашку рвут! А ты про подъяремного вола подумала, — и искренне, по-мальчишески, засмеялся.
Засмеялась и Мирослава.
— Говорите, говорите, Данило.
— О чем же тебе еще?.. И кроме очень больших есть меньшие, только свои радости: это когда тиховейно сеется зерно и пробиваются всходы, когда маленькими корабликами плывет по полям молодой горох, когда звенит цветом и музыкой гречиха, когда девичьей рукой зовут кого-то к себе метелки проса и когда стоит тихий звон созревшей нивы. Каждый день в широком поле чем-то меня волнует, радует, потому что сросся, сроднился с ним. Я недавно услыхал крылатые слова нашего большого ученого об ученых: «Мы должны стоять на глобусе». Boт и крестьянство наше тоже должно стоять на глобусе, обсеивая мир зерном жизни. Так ты, верно, догадываешься, что у меня есть чем жить. И романтике тоже есть чем жить, хотя и ее, и крестьянство не милуют демагогия и недоверие мелкотравчатых деятелей, — и нахмурился, вспомнив что-то свое, умолк.
Нахмурилась и гостья, приложила руку ко лбу и тихо, не обращаясь ни к кому, спросила:
— Почему так часто мелочность, угроза или нашептывание подавляют великое? Мы земле, хлебу весь труд, всю душу отдаем, а еще должны оберегать душу от тех, которые не любят ни земли, ни хлебороба, только с подозрением приезжают и с подозрением уезжают. Ученые говорят: в сердце человека есть два предсердия и два желудочка. Но еще не перевелись и такие экземпляры, у которых по четыре желудочка… Вы не боитесь, что нашу высокую романтику может задушить чересчур ретивый бюрократ? Для этого он и хозяйственными расчетами козырнет, и соответственными цитатами блеснет, и правдоподобием прикроется.
Данило невесело удивился, невесело усмехнулся:
— Философ ты мой с золотыми косами…
Мирослава не растерялась:
— Если вы меня так велеречиво окрестили, то ответьте на один приземленный вопрос.
Хлопец поклонился и шутливо, как испанские гранды в пьесах, провел рукой у самого пола.
— Охотно, сеньорита!
— Тогда скажите, многоуважаемый товарищ председатель, к которому прилетают гости даже из области: почему в вашей хате до сих пор нет пола? Любовь к старине, патриархальщине?
— К убожеству не может быть любви.
— Это не ответ, а отписка.
— А теперь — ответ, — уже серьезно сказал Данило. — Я тогда настелю пахучей, с живицею, пол, с прожилками, с гнездышками от сучков, что так хорошо смотрят на тебя, когда в селе не останется ни одного земляного пола. Ни одного!
— Вот как! — Насмешливо хмыкнула Мирослава. — Тогда продолжайте свою мысль и про хату.
— И продолжу. Ты знаешь вдову Галину Пастушенко?
— Ту, у которой пятеро детей?
— Да.
— Какая красивая женщина! — Мирослава погрустнела, и вся игра сошла с ее лица.
— Вот когда у этой красивой женщины и у всех наших вдов уже будут новые настоящие жилища, тогда я и подумаю о своей хате.
— Долго вам, наверное, придется ждать.
— Я терпеливый, дождусь.
— Не только терпеливый, но и упрямый. — Под ресницами девушки встрепенулась улыбка. — А спите вы… на гвоздях?
— Нет, на сене, — засмеялся Данило. — Сено же застилаю рядном, полосатым или под цвет гречечки.
— И это уже хорошо. — Девушка взглянула на полосатое рядно, подошла к стене, возле которой стоял старый, с выгоревшими цветами сундук.
— Что это за девочка? — глянула на фотографию, с которой внимательно смотрел на нее миловидный ребенок.
На лицо Данила легла печаль.
— Это Оленка…
— Ваша родня?
— Если и родня, то, наверное, далекая-далекая.
Мирослава пристально поглядела на Данила.
— Почему же «наверное»?
— Как тебе сказать… — заколебался он.
— Говорите, как есть! — уже не терпелось девушке, и в голосе ее зазвучало подозрение.
— Не хочется, чтобы ты слушала о грехах или греховности жизни.
— Какой греховности? — насторожилась Мирослава и почувствовала, что в душе что-то обрывается… С чего бы это?
— Тогда слушай… Несколько лет тому назад шел я вечером к своей двоюродной сестре Оксане. Тишина, тени и лунная игра пестрили и луга, и татарский брод. Вдруг с берега эту тишину раскололо такое неутешное всхлипыванье, что мне жутко стало. Бегом бросился к броду и над стремниной, в кустах ивняка, увидел девушку, которая отбрела от берега и, очевидно, прощалась с жизнью. Выхватил несчастную из воды, вынес на берег, узнал и, как мог, стал утешать. Стоит она передо мною и роняет молчаливые слезы на прибрежный песок. Вижу, не успокою Марию — так звали эту девушку. Тогда посадил ее в лодку, переехал брод — и к Оксане. Та уж как-то отходила ее.
— Что ж это за история была? — загрустила Мирослава.
Данило вдруг, обозлившись на кого-то, сказал:
— Вот та самая, извечная для слишком доверчивых девчат. Совратил Магазанник поденщицу, которая работала в лесах, а когда у нее под сердцем забилась жизнь, погнал к знахарке. Благодаря Оксане оно как-то обошлось, и у Марии появилась доченька, а у меня вот эта фотография, — улыбнулся и ребенку, и Мирославе.
— А Мария где же? — глухо спросила Мирослава.
— Вышла замуж за хорошего человека и переехала в соседний район. Изредка пишет Оксане и мне… Ты чарочку кизиловой выпьешь, чтоб согреться?
— Нет, — грустно покачала головой Мирослава и почему-то сняла шапочку.
— А терновки?
— Разве сегодня праздник?
Он заглянул под ее неровные ресницы, где смущалась та пленительность, которая уже давно очаровала его.
— Для меня — праздник.
— Это правда? — спросила Мирослава, едва шевеля губами.
— Истинная правда, — ответил он полушепотом и увидел в ее волосах несколько зерен пшеницы. — А откуда взялись эти зернышки?
— Разве вы забыли, что я сегодня ездила к селекционерам?
— И как они?
Мирослава деланно вздохнула:
— Только мои горькие слезы разжалобили их — насыпали своего волшебного зерна в шапочку. Я тогда сняла рукавицы, чтобы и в них сыпанули, да не вышло по-моему.
— Там, у селекционеров, и оставила рукавички?
— Ага.
Данило засмеялся.
— И там они будут расти?
— Такие, как у вас, не вырастут.
— Как твои рученьки?
— Отходят.
— Иди к печке, она еще теплая. И чего только не умеют эти рученята… — Приложил их к кафелю цвета весенней зелени и пошел в каморку собрать что-нибудь на ужин.
Только теперь страх охватил девушку. Зачем же она пошла в чужую хату? Разве можно ей тут быть, ужинать? Может, не одна уже приходила сюда, может, потому и ворота стонут чайкой? Может, не раз у него был праздник. А как чувствовал себя кто-то после того праздника? Она в смятении отошла от печки и снова встретилась со взглядом матери. Он немного успокоил девушку.