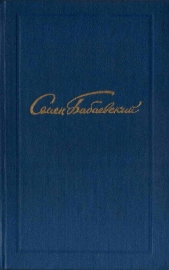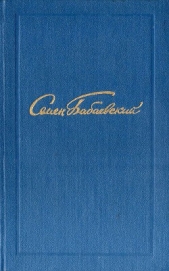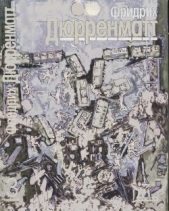Том 4. Повести

Том 4. Повести читать книгу онлайн
В четвертый том собрания сочинений Валентина Катаева вошли повести: «Я, сын трудового народа…», «Жена», «Электрическая машина», «Сын полка», «Поэт».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Капитан Гастелло, весь охваченный пламенем, как гений света, пролетел и врезался в черные танки с белыми крестами.
Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских полированных плит. Смерть клала черные лабрадоровые плиты. Слава клала красные, гранитные. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в холодные закрытые глаза и гипсовые губы.
И уже нечем было дышать.
А механические барабанщики все шли и шли, выстукивая палочками свой зловещий марш — угнетающий и однообразный. Иногда этот марш заносило песком, и тогда он еле слышался. В затихающей музыке все что-то продолжало оступаться. Завод кончался. И, наконец, оступившись в последний раз, оно остановилось, как бы повиснув в воздухе над самой землей. И в последний раз надтреснуто прозвучал голос рожка.
Некоторое время длилось молчанье, и вдруг разразились бурные аплодисменты.
Я очнулась. Как после глубокого сна, я увидела пышный зрительный зал, раскрытую сцену, уставленную пюпитрами. Я увидела музыкантов, грифы скрипок и опущенные смычки. Дирижер с широкой крахмальной грудью и орденами на лацкане фрака, возбужденный, счастливый, розовый, вытирал платком блестящий лоб и раскланивался, стоя возле своего высокого пульта. В ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул, товарищ Вышинский.
Рядом со мной неподвижно, с полузакрытыми глазами сидел Петя. Несмотря на то что оркестр уже не играл, мне казалось, что музыка еще продолжается и маленькие барабанщики тащатся по сугробам, на каждом шагу оступаясь, останавливаясь и падая.
— Пойдем покурим, — сказал Петя, решительно вставая.
Он, быстро прихрамывая, пошел в своих косолапых пимах впереди меня к выходу.
Я поняла. Он не хотел, чтобы я заметила его слезы. Выходя из стонущего зала, я оглянулась и увидела худенького молодого человека в пиджачке с отстающим сзади воротником, в очках, с петушком на макушке. Он быстро, сухо пожимал руки скрипачам и кланялся. Это был Шостакович.
Когда мы спустились в нижнее фойе, Петя уже привел себя в порядок. Он закурил трубку. Это была трубка Андрея, которую я подарила Пете на память о друге.
Мы стояли под сияющей четырехугольной колонной искусственного мрамора цвета морской воды. Мимо нас по кругу ходила публика. Выделялись фисташковые, бежевые френчи английских и американских офицеров, черные пиджаки дипломатов, вязаные джемперы иностранных корреспондентов. Пахло хорошими духами и египетскими папиросами. Из дубовых решеток отопления дышало жаром, и трудно было представить, что на дворе сейчас буран и сумасшедший ветер несет над Волгой тучи мутного снега, призрачно освещенного невидимой луной.
— Понравилось? — спросила я.
— Толково, — решительно сказал он. — Это бы надо, чтоб в армии послушали. Выдающееся произведение советской музыки.
Возвращаясь на свои места, Петя взял меня об руку и осторожно пожал мои пальцы.
— Эх, Ниночка, обидно, что нашего Андрея нет. Не довелось ему увидеть, как немцев разбили под Сталинградом. Это была редкая красота.
Я спросила о своей поездке на фронт.
— Теперь скоро, — сказал он уверенно.
Когда мы сели на свои места, Петя погладил мою руку и осторожно ее поцеловал. В это время дирижер взмахнул палочкой, и тотчас я перенеслась в Севастополь, в номер маленькой гостиницы на набережной Хрустальной бухты. Мы проснулись с Андреем и увидели потолок, сияющий в знойном сумраке комнаты.
Живая зеркальная сетка, мелко и часто мигая, текла по потолку. По этой сетке иногда медленно двигались небольшие радужные тени каких-то непонятных предметов. Очарованная, я долго смотрела на экран потолка, не соображая, что же это такое.
— Андрюша, что это такое? — наконец спросила я, пересилив смущение.
Он покосился на меня нежными, веселыми глазами, блеснувшими в потемках.
— Это феномен, — сказал он, — называется в физике камер-обскура. Слыхала?
Боже мой, до чего ж мне приятно было слышать его густой, окающий голос и чувствовать щекой его круглое большое плечо!
Мы проходили физику, и я, конечно, знала, что такое камер-обскура. Но как же я сразу не догадалась?
Мне стало весело.
— Значит, никакого волшебства? — сказала я.
— Наоборот, сплошное волшебство, — сказал он.
— Ты так думаешь?
— Конечно. Разве то, что происходит с нами, не волшебство?
— Ты думаешь? — еще раз сказала я, стараясь как можно полнее и глубже понять его чувство.
— Как же не волшебство, когда волшебство! — воскликнул он горячо, почти с восторгом. — Подумай и разберись. Мы с тобой забрались в темную коробку, закрылись ставнями и воображаем, что спрятались от всего мира. Но природа не терпит темноты и одиночества, даже если это одиночество вдвоем.
Я тотчас поняла его мысль.
— Ага. Я понимаю. Ставни. А в ставнях — дырочка от сучка. Довольно самой маленькой дырочки, чтобы… Верно?
— Во-во. Для того, чтобы проник один только луч. А уж вместе с этим лучом и все остальное. Погляди, как замечательно. Живое изображение Хрустальной бухты во всех подробностях. Маленькие волны, и на них маленькие молнии солнца.
— В общем, похоже на живой мрамор, — сказала я.
— И даже на казанское стирочное мыло с синими жилками.
— Сам ты казанское мыло.
— Ничего не поделаешь, люблю Волгу. А Казань — город волжский.
Ох, какой вздор несли мы от смущенья и как замечательно было нам вместе в это наше первое утро! До чего приятно мне было называть его «Андрюша» и слышать, как он называет меня «Нина». Для того чтобы лишний раз назвать его Андрюшей, я все время обращалась к нему с разными вопросами и разъяснениями по поводу феномена камер-обскуры с такой серьезностью, как будто бы он и впрямь был великий специалист по камер-обскурам.
— Андрюша, а это что за предмет двигается?
— Этот? Маленький?
— Да. Радужный. С лапками.
— Не узнаешь?
— Нет, Андрюша.
— А ты всмотрись, Нина.
Я стала прилежно всматриваться. Было что-то знакомое в этом маленьком предмете. Особенно в его движущихся сверкающих лапках. Но все же я никак не могла постигнуть.
— Ну, — сказал Андрей, поглядывая на меня сбоку. — Эх, ты! А еще студентка. Да ведь это…
— Лодка! — закричала я, вдруг узнав предмет. — Лодка!
Действительно, это было маленькое волшебное изображение ялика. Серый и красный, со сверкающими лапками весел, он маленькими толчками двигался, опрокинутый над нами на потолке, по зеркальной сетке морской ряби. Я даже разглядела двух человечков — одного на корме, другого на веслах. И еще проносились какие-то белые, сияющие тени. Но их я узнала уже без труда. Это были чайки. И мне тотчас захотелось как можно скорее вон из комнаты, на простор, на солнце, в море.
Не успела я об этом подумать, как Андрей уже сказал:
— Купаться?
— Конечно. И как можно скорее! Не валяться же здесь целый день.
— С добрым утром, — сказал Андрей.
— С добрым утром, — сказала я.
Мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и крепко поцеловались. И тотчас я перенеслась в военную закамуфлированную Москву, с домами, размалеванными синими, багровыми, черными геометрическими фигурами, как на картинах супрематистов. Мы шли под руку по улице, заваленной громадными сугробами неубранного снега. Был январь сорок второго года, и мы не знали, что идем по Москве вместе в последний раз в жизни. Москва только что отбилась от немцев. Их гнали от Москвы. Это были упоительные дни первой нашей победы. Но на Москве еще лежал грозный, суровый отпечаток осады. На окраинах, на розовом фоне ранней зимней зари рисовались противотанковые ежи, сделанные из черных скрещенных рельсов, наполовину белых от снега. На Кремлевской стене были нарисованы ложные окна и деревья. Фасад Большого театра, в который попала бомба, был закрыт громадной декорацией из «Ромео и Джульетты». Было что-то пышное, итальянское, с колоннами и фонтаном. По улице Горького шли танки, грубо выкрашенные грязно-белой краской, и белые фронтовые «эмки» с простреленными стеклами и помятыми боками как сумасшедшие носились по улицам, наполняя воздух тяжелым запахом военного бензина. Быстро смеркалось. Цигейковый воротник Андрея побелел от его дыхания. На Театральной площади начал явственно светиться циферблат часов, вымазанный синей краской. Возле кинематографа «Востоккино»… Простите, это, кажется, за мной!