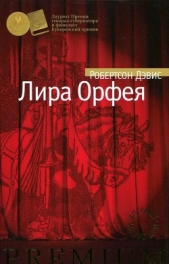Лира Орфея
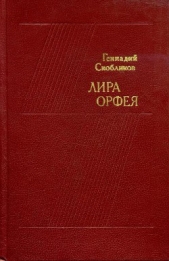
Лира Орфея читать книгу онлайн
В романе автор продолжает исследование характера нашего современника, начатое им в повестях «Варвара Петровна» и «Наша старая хата».
Эта книга — о трудном счастье любви, о сложностях и муках становления художника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Или — совсем молодой и кумир молодых, лихой и оригинальный теоретик искусства Владимир Николаевич Турбин...
Нет, конечно же, все-таки ему крупно повезло, Лидка, просто редкостно повезло. И вообще: какая она, если окинуть взглядом, и подвижная, и насыщенная, и интересная жизнь. И действительно, вся — как одна бесконечная книга. Вот же ведь и у него тоже: и убогая их курская деревня, и потом Курск, школа, это их районное техучилище, потом целина, армия — и вот уже Москва, этот факультет, эта вот аудитория сейчас, эти люди. И ведь как естественно тут все, и какие необходимые тут все страницы. Так же, как и у любого другого человека, наверное, кого ни возьми: нет в нашей жизни ничего несущественного, если к этому нормально подойти. И еще вот: как естественно они в нем соседствуют и как последовательно дополняют друг друга — и их деревенские люди, эти бабы и мужики, о ком он все больше и больше начинает думать теперь; и те же его ребята на целине — Петро, Иван да и все остальные; и Дмитрий Прохорович Рукавишников — их капитан, их ротный, порядочность и кристальность которого и его человечность он унес с собой из армии на всю жизнь; и теперь уже эти вот новые люди, особенно полюбившиеся профессора и преподаватели, тоже вошедшие теперь в его жизнь... Как много накапливается в нашей жизни людей, и как они — каждый своею частицею — образуют в нас вот это большое и сложное единое целое, чем, в конечном итоге, и есть, наверное, каждый из нас. ...Если бы только знать, конечно, куда тут деть свое, как говорится, врожденное, кровное; или вот эту — скрытую от всех — свою боль, которой и ни утоления у него, даже вот и с Лидой не получилось, и ни ее выражения...
Между тем на собрании происходило что-то любопытное, потому что Юрка, однокурсник и жилец одной с ним комнаты, дал ему, замечтавшемуся, приличного тумака в бок, энергично, одними губами обозначил короткое и неоскорбительное для русского человека ругательство и кивнул головой в сторону кафедры, где что-то громко произносила какая-то женщина. Теперь и он заметил, что весь зал, эти триста или четыреста человек, в том числе и вся их «Камчатка», смотрели на говорившую седовласую женщину, одетую в защитную гимнастерку. Она уже несколько минут стояла на кафедре и о чем-то горячо говорила.
...— Позорный случай прошлого года, — отрубала теперь рукой она, — когда товарищи руководители экспедицией не сумели оградить студентов от опасного общения с определенной частью местного населения, не должен повториться. Разве можно было спокойно отнестись к тому факту, что какие-то непроверенные люди рассказывают студентам, как проходила у них коллективизация?! Кто из товарищей руководителей может встать и сказать, что говорилось тогда? Почему на факультете не был разобран этот случай, почему наша партийная организация запустила воспитательную работу? И чем мы гарантированы, что этими разговорами молодежь не поставлена перед совершенно ненужными ей вопросами. Разве можно допустить...
У нее было сухое острое лицо, сухие горячечные глаза, сухой металлический голос. И вся она была сухая, будто из одной кости от узкой плоской груди до тонкой смуглой руки, которой она то колотила себя в грудь — и стук этот был слышен даже у них на «Камчатке», то, будто саблей, рубила воздух над кафедрой. Она-то и говорила — будто выпускала в избранную ею в глубине зала точку разной длины пулеметные очереди, точно соответствующие длине законченных смысловых отрезков предложений.
— Кто это? — спросил он Юрку.
— Из комиссии, вопрос о практике готовила. Слушай давай...
А суть, оказывается, была в следующем. Во время прошлогодней диалектологической практики в одном селе студенты записали интересный живой рассказ старика-колхозника о том, как в начале двадцатых годов у них тут была организована коммуна. Старик рассказал, как свели они на общественный двор скот, снесли кур, сдали весь инвентарь и даже домашнюю утварь, так как питались из общественного котла — по сигналу в чугунную доску: сначала работающие, потом дети, а уж после старики и старухи. Коммуна такая, естественно, распалась, а когда началась коллективизация, то многие, уже наученные этим опытом, на первых порах наотрез отказались вступать в колхоз. Вот, собственно, и вся история, и никому из руководителей экспедиции, по словам самой же ораторши, и в голову даже не пришло что-то тут «разбирать». И теперь отыскалась она — такая вот бдительная, вошла в раж и воинственно обвиняла чуть ли не весь факультет и его партийную организацию, что тут до сих пор «не разобрали»-таки «этот позорный случай».
...И вся его гармония, весь его хороший душевный настрой будто полетели в тартарары. Будто эта ораторша и его самого обвиняла; и он знал уже, что ей, вот такой одержимой, уже ничего не доказать.
Бог ты мой, боже ж ты мой, — думал он, чувствуя, как все больше и больше вскипает и как кровь приливает к вискам, — да точно ж такая коммуна и в те же двадцатые годы была организована и у них в соседней деревне, и он еще мальчишкой слушал такие ж, наверно, рассказы — и большей же частью именно веселые, анекдотичные, как это, наверное, и должно только быть, когда люди потешаются над собственной невинной наивностью и собственными перегибами. Какие еще рассказы рассказывали бывало мужики, да и теперь еще тоже рассказывают. И сколько он помнит, никому никогда и в голову не приходило, что есть тут что-то запретное и что за это надо «разбирать».
Исторический анахронизм, пришла из вчерашнего и не лучшего нашего дня, уже осужденного партией, но вот не понимает сама и воинственно, атакующе пытается диктовать свое будущее, утверждать себя в нем. И эти вот — образованнейшие и умные, серьезные люди вынуждены сидеть и слушать ее.
И хотя вслед за нею сразу же выступил представитель парткома университета и спокойно и даже сверхделикатно, но и ясно и определенно сказал, что не видит он ничего тут крамольного и не знает, за что тут кого-то надо бы разбирать, но что воспитательной, идеологической работой надо, — это, естественно, правильно, — надо заниматься постоянно и везде, и все в зале при этом согласно закивали и как-то облегченно вздохнули, что не обостряется этот нежелательный и явно же искусственный разговор, — он, Максим, и оставался потом немалое время с этим испорченным и разрушенным в себе самом мире и ему никак не удавалось вычеркнуть эту ораторшу из себя.
И — о, сколько их будет еще потом! И в учительской в школе, и в редакциях газет, и на тех предприятиях и в тех организациях, куда он будет приходить или приезжать по письмам и по заданию редакции и видеть там столкновение хороших и честных людей с такими вот «ораторшами» обоего пола, и даже и не такими вот прямолинейными, а более изощренными, современными, прикрывающими свое убогое и чаще всего небескорыстное понимание жизни самыми правильными и светлыми нашими лозунгами. И хоть правда и разум, как правило, торжествовали всегда (потому что и правда и разум и диалектически, и исторически в итоге всегда торжествуют), сколько же крови и нервов успевают эти «ораторши» всех мастей испортить порядочным людям: врачи-психотерапевты очень и очень многое могли бы нам тут рассказать. Впрочем, и сами «ораторши» тоже не редкие у них пациенты.
Ну, а он, Лидка, он, если правду, — он так и не научился себя тут вести: нет в нем так нужного иногда холодного дипломата. В той же школе, или в тех же редакциях, или при обсуждении и защите хорошей честной рукописи или книги эмоции слишком все-таки перебарщивают в нем, и он часто потом ругает сам же себя, что вот опять недостало ему хладнокровия и опять сказал где-то лишнего, что, по трезвому размышлению, можно было бы лучше не говорить. Тем более, что эти «ораторши» — о, как они потом умеют использовать каждое слово твое!..
...Йог Рамачарака рекомендует расслабить все мышцы, освободить мозг от напряжения — и сон придет.
Я лежу на спине, пытаюсь расслабить все мускулы, пытаюсь ни о чем больше не думать, делаю глубокие вдохи. Но ничего у меня нынче из этих моих ухищрений не получается, и сон не приходит.