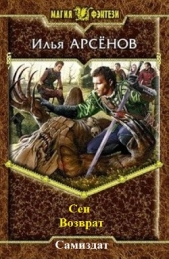Тихий гром. Книга четвертая

Тихий гром. Книга четвертая читать книгу онлайн
Четвертая, заключительная, книга романа «Тихий гром» повествует о драматических событиях времен гражданской войны на Южном Урале. Завершая эпопею, автор показывает, как в огне войны герои романа, простые труженики земли, обретают сознание собственной силы и веру в будущее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чулок, выпростав руки из рукавов тулупа, передвинулся с табуреткой к столу, погладил широкой заскорузлой пятерней клочок бумаги и, покряхтев натужно, спросил:
— Чего писать-то?
— Пиши, — сказал Егор. — Председателю хуторского Совета такому-то… Прошу освободить мине от аресту и контрибуции, потому как весь хлеб отняли дутовцы… Написал? Подпишись. И пошли на место. Вот как соберутся все советчики, мы вместе и обсудим, чего с тобой делать… Может, в городскую тюрьму придется отправить… Там ни тулупа, ни шанег хозяйкиных не будет.
Вернувшись к столу, Егор взял Чулково заявление, повертел его так и этак? Потом достал другой листок и стал выводить на нем такие же и точности каракули, как у Ивана Корниловича:
«Петька скажы матери штобы показала етим чертям хлеп и мине атпустють».
Глядя на старания товарища, Тимофей удивился и, улыбнувшись в ус, одобрил:
— А ведь шибко похоже получилось… И подпись не отличишь от настоящей. Ну и ма-астер! Думаешь, сработает?
— А вот сейчас поглядим, — ответил Егор, свертывая бумажку. — Как в песне: «Милый сватает — страдаю. Что получится, не знаю».
Егор накинул шинель и без шапки вышел. Тепло на дворе, и до Чулкова дома рукой подать, не далеко. Тимофей от нечего делать слонялся из угла в угол по пустому помещению. В окна заглядывал. Теперь уж скамеек наделали много. Стояли они возле стен, а все лишние сдвинуты были в дальний конец.
Ждать пришлось не более четверти часа. Вернулся Егор сияющий и с порога доложил:
— Сработала паршивая бумажка, председатель! На задах у его куча назьма, вот в ей и хлебушек. Откопал я с краю, раскрыл. По-хозяйски сделано: мешки брезентом накрыты, потом — соломкой, а сверху — навоз… Не велел я им ничего трогать. Сказал, что сичас придут к им с понятыми.
— Лихо ты провернул все это, Егор Ильич! — заметил Тимофей, стоя у окна и нервно почесывая за ухом. — И немало, видать, хлеба лежит в той куче, да только попахивает затея твоя душнее, чем тот навоз, каким хлеб-то прикрыт.
— Да ты чего, Тимофей, виноватишь-то мине? — опешил Егор, остановясь возле стола в недоумении. — Они же, все эти Чулки да Кестеры, обманывают Советскую власть, а мы чего поставим против ихнего вранья?
— Они либо несознательные, либо вовсе враги. А кто есть мы? Советская власть. И негоже нам, наверно, становиться с ими на одну доску.
— Э-э, мой грех перед людями отмолют те, какие с голоду не помрут от Чулкова хлебушка… Вон Василий с Григорием подъезжают, — обрадовался Егор возможности прекратить этот неприятный разговор.
— Дак вот, председатель, — заговорил Василий с приходу, — семьдесят пудов мы выкопнули у Кестера из той заначки.
— А кто в понятых был? — спросил Тимофей.
— Кум Гаврюха да Филипп Мослов.
— Ну вот, берите их снова да у Чулка на заднем дворе навозную кучу копните. Там, небось, и того больше добудете.
— О, — удивился Василий, поворачиваясь к, двери. — Сам, что ль, осознал, аль разведка донесла?
Ему никто не ответил, а вместо того Тимофей велел Егору позвать Кестера из кутузки. Тот, войдя, остановился возле порога, словно готовясь выслушать смертный приговор. Тимофей спросил:
— Ну, и чего ж ты высидел за эти дни, Иван Федорович? Может, индюшат десятка два под своим тулупом выпарил?
Кестер, выдернув трубку изо рта, молчал настороженно, стараясь понять, куда клонит председатель. Стоял Иван Федорович как-то боком и злобно косился из-за края волчьего воротника на советчиков.
— Тебе сколь сдать-то велено было? — продолжал Тимофей допрашивать.
— Пятьдесят пудов.
— Ну вот, за эти дни ты целых двадцать пудов еще насидел. Спасибо за перевыполнение. Иди домой. Больше у нас к тебе нет вопросов.
— Сволочи вы красные! — заорал Кестер, догадываясь о случившемся. — Своего у вас никогда не было, чтобы с… ж… прикрыть, а чужое среди белого дня грабите! — Он рванулся к двери, продолжая несусветную матерщину, запнулся за порог и хлопнул дверью так, что посыпалась непрочная зимняя штукатурка.
К вечеру того же дня отпустили и Ивана Корниловича. У того почти девяносто пудов выгребли, а требовали пятьдесят.
О дочери своей, о Клане, Чулок ни разу не вспомнил, не упрекнул зятя за украденную дочь. А Тимофей тем более не затронул минувшего, потому как не бывал он у тестя ни единого раза, и Кланя туда не ходила. Как безжалостным топором, отсекли все нити. Агафья только сохла по дочери, да молчала. Иван Корнилович не велел поминать ее в доме.
Сотворил фокус Егор Проказин с подделкой письма. Хлеб у Чулка выгребли. Шутя вроде бы все это вышло. А Егор приуныл. Молчаливым сделался. Совесть грызла.
В тот самый день, когда Кестера и Чулка растрясли советчики, дольше всех задержался Егор в Совете с бумагами. В сумерках уже домой направился. Возле спуска к плотине, будто случайно, Дарья Рослова ему встретилась, родная сестрица, стало быть. А вернее всего, поджидала она братца, наблюдая от своего двора.
— Сказывал Вася, как вы хлебец у богатеев трясете, — завела она будто с упреком в голосе. — Молодцы лихие, прям сыщиками поделались…
— А чего ж делать-то? — стал оправдываться Егор. — Ведь Расея с голоду помирает, а мы тут все ж таки поколь досыта едим.
— Досыта! — хмыкнула Дарья. — А не застревает у тибе в горлушке сытый-то кусок?
— Эт ты об чем?
— Об том, что у тяти нашего родного тоже хлебушек спрятан…
— Да ты что?! Кто тебе сказал?
— Маня шепнула. А ты не знал, что ль?
— Откудова ж мне знать? Мне-то ведь не говорила она. Да и как это, когда они ухитрились такое дело сотворить?
— Сват Иван под крещение приезжал с Зеленой. А Маньку в тот раз к матери отправили они на Зеленую… Ты-то где был?
— А я в городу тогда дня три, знать, проторчал…
— Вот-вот. А Манька-то воротилась домой да пол стала мыть в горнице и увидала, что две половицы возле глухой стены качаются! Чуток приподняла одну, да и поняла все.
— Дак чего ж она мне-то не сказала?
— А это уж ты у ей и спроси по-хорошему.
— Ну, спасибо, сестра.
Закусил ус Егор и зашагал по спуску на плотину. Шибко некрасиво все это вышло. Не часто заглядывал он в закрома, особенно с тех пор, как с общественными делами связался. Когда ночевали в хуторе дутовцы, Егор, не желая встречи с ними, уехал к свату на Зеленую.
Стали потом раскладывать в Совете контрибуцию по хозяйствам, и Проказиным тридцать пудов определили. А сдавать-то нечего оказалось. Егор сам проверил и убедился в том. Отец на казаков свалил, что будто бы они все забрали. Хотя овес, кроме семенного, и к самом деле дутовцы выгребли. Объяснил Егор свое положение советчикам — поверили. А как теперь быть?
Помимо прочего, вынырнула и еще одна загвоздка щекотливая. До действительной службы не успел жениться Егор. А после нее, пока приглядывался, война германская началась. Так до сих пор и ходит в холостяках. А время-то катится безудержно. Не побежишь по вечеркам на четвертом десятке лет. Манька вдовой от Гордея осталась. И все клонилось к тому, чтобы объединиться им. Даже отец на то намекал осторожненько. И Марья не противилась. А тайну вот не доверила ему — Дарье, золовушке своей, шепнула.
Дня три носил Егор эту тайну в себе. Будто пудовый камень висел у него на шее. Ни у отца, ни у Марьи ни о чем не спрашивал. А половицы горничные проверил незаметно и убедился, что не пустые слова сказала Дарья. Умолчать об этом — совесть не выдержит. А сказать — отец на всю жизнь возненавидит. Вот и терзался до того, что Тимофей уж заметил неладное и спросил как-то под вечер, когда вдвоем они в Совете остались:
— Захворал ты, что ль, Егор Ильич? Уж какой день вроде бы не в себе ты. Аль показалось мне?
— Нет, не показалось, Тима, — заерзал на табурете Егор. — Да только хворь эта — особенная. Никакая Пигаска тут не пособит… — Он поднялся из-за стола и зашагал вдоль запотевших под вечер окон. Окурок обжигал пальцы, а он тянул из него горячие остатки, словно собираясь проглотить. — А ты вот можешь и пособить, и погубить. — И рассказал о своей печали, добавив: — Вот пущай Совет меня судит или отца допрашивает… А насчет сознаться-то крепок ведь он… В кутузку, что ль, старика тащить?