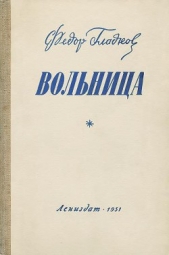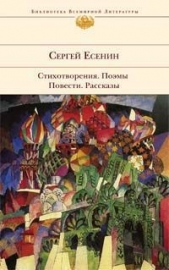Лихая година

Лихая година читать книгу онлайн
В романе "Лихая година", продолжая горьковские реалистические традиции, Фёдор Васильевич Гладков (1883 — 1958) описывает тяжелую жизнь крестьянства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Наука нетрудная, милая Феня. Надо только знать, как дотронуться до сердца.
Он взял у неё палку и молча пошёл к воротам. Елена Григорьевна проводила его изумлёнными глазами, потом догнала у калитки, остановила и вскинула руки ему на плечи.
— Ну, зачем вы обуздываете себя, Мил Милыч?..Зачем скрываете себя настоящего?..
И она впервые проводила его на горку и скрылась с ним в улице длинного порядка.
Костя раздумчиво поглядел им вслед, ударил себя рукой по бедру и озадаченно проговорил:
— Судим и рядим о человеке: и неудашный‑то, и бессловесный‑то… А вот, поди ж ты… какие чудеса в нём скрываются!..
Феня вздохнула, улыбнулась и тихо ответила:
— Бессчастный‑то какой!.. Сирота безродная…
А то произошёл с ним такой случай. Как‑то в осеннюю распутицу, когда наш жирный чернозём превращался в невылазное месиво и по дорогам можно было проехать только верхом или пройти в высоких сапогах по бурьянным обочинам, между нашим селом и Ключами застряла в грязи по самые ступицы телега. Костлявая лошадёнка барахталась по брюхо в липкой кашице и никак не могла вытянуть телегу из этого болота. Измученный, истерзанный мужик в дырявом кафтане, утопая по колени в чёрном месиве, бил конягу, как безумный, и вожжами по рёбрам и кулаками по морде. Лошадь рвалась из оглобель, храпела, шаталась, а потом грохнулась в грязь. Мужик бросился к ней и стал бестолково метаться около неё. На телеге лежала баба в худодыром тулупе с ребёнком у груди.
Мил Милыч шёл из Ключей к Елене Григорьевне. Он не считался ни с погодой, ни с бездорожьем и каждый праздник шагал по просёлку от своей школы до Костиной избы и обратно. Не раздумывая, он подошёл к мужику, оттолкнул его от лошади, рассупонил хомут, снял дугу и поводом понудил одра встать на ноги. Но лошадь даже не шелохнулась. Мил Милыч строго спросил, куда чёрт погнал мужика в такую распутицу, но мужик только всхлипывал и матерился. Баба, недужная, стонала и каялась, что это она виновата: это она, мол, умолила мужа отвезти её к нашей лекарке Лукерье, чтобы полежать у неё и полечиться вместе с хворым ребёнком, а то совсем смерть пришла. Мил Милыч хотел снять бабу с телеги, но она застонала: «Не хожу я, дяденька, ноги у меня отнялись». Тогда он взял ребёнка на одну руку, а другой помог ей сесть себе на плечи и велел держаться за палку. Баба завыла от стыда, но Мил Милыч шутливо пригрозил сбросить её в грязь. А она стонала и причитала: как это она на закорках у учителя средь людей очутится и какое бесславье будет на улице. Замолчала она только тогда, когда Мил Милыч пообещал ей, что пронесёт её не по улице, а через гумна.
Феня увидела из своей половины Мила Милыча с бабой на спине и, распахнув дверь в комнатку Елены Григорьевны, нетерпеливо позвала её:
— Скорей, скорей, Олёнушка! Чудо‑то какое!
Костя стоял у окна и дивился:
— Человек‑то какой! Ну, кто бы на его месте такую беду разделил?
Феня убеждённо и ласково ответила ему:
— А кто же, как не ты, Костенька… будь у тебя самосилье.
Елена Григорьевна так и застыла у окна.
Мил Милыч без усилий шагал со своей ношей вдоль прясла к избушке Лукерьи, а на верху взгорка и у мазанок сиротского порядка стояли бабы и, поражённые, смотрели на это невиданное зрелище. Потом болтали в селе, что ключовский учитель подобрал на дороге, в топкой грязи, бабу, лежавшую без памяти с полумёртвым ребёнком, и не погнушался принести её на своих плечах к Лукерье.
Он пришёл к Елене Григорьевне, как всегда, тяжёлый, неуклюжий, старый для её девичьей комнаты. Но его встретила в сенях Феня и ввела не к Елене Григорьевне, а в свою половину.
— Только вы могли совершить этот подвиг, дорогой Мил Милыч, только вы! —растроганно встретила его Елена Григорьевна. — Каждый раз я вас вижу с новой стороны.
Он с застенчивым вопросом в глазах посмотрел на Костю и Феню.
— Мне здесь бы, у порога, сапоги снять. Очень уж много грязи принёс… Дайте‑ка мне табуреточку. Оказия тут по дороге случилась…
И он нехотя и коротко рассказал, что произошло на дороге и как он принёс больную женщину и ребёнка к Лукерье.
— Редкий случай… Второй по счёту в моей жизни.
Феня спокойно и твёрдо сказала:
— На редкий случай и люди редкие бывают. На них свет держится.
Елена Григорьевна пылко схватила его грязные руки и взволнованно прошептала:
— Вы действительно редкий человек, Мил Милыч: вы, очевидно, не сознаёте своего подвига…
Но Мил Милыч с недоумением взглянул на неё, как на ребёнка, и поучительно возразил:
— Ну, какой там подвиг! Это сделает каждый честный человек. А мы с вами, Лёля, в неоплатном долгу перед народом.
— О господи, какой вы должник? Трудовой человек не может быть должником. А вы всю жизнь отдавали себя людям.
— Э–э, чего там!.. Спросите вот Константина с Феней, они ответят вам, что мы — захребетники.
Феня сердито отвернулась и буркнула:
— И не слушала бы…
Елена Григорьевна засмеялась:
— Вот вам и ответ! Всю жизнь живёте вы с народом, а народа, оказывается, не знаете.
Костя с негодованием, но почтительно пожурил Мила Милыча:
— Умный вы человек… образованный… а какие глупые слова сказываете…
— Не я говорю — мужик говорит.
— Мужик‑то другое говорит: должники‑то вон где — на горе помещик, а на той стороне — Сергей Ивагин да всякие мироеды.
Я кинулся к Милу Милычу, вцепился в его сапог, весь заляпанный грязью, и изо всех сил стал стягивать его с ноги. Но Мил Милыч оторвал мои руки от сапога и укорительно улыбнулся мне.
— Я, паренёк, чувствую твоё сердечко. Спасибо! Но даже ребятишкам не позволяю услужать мне. Я привык сам о себе заботиться. Хочу с совестью жить в ладу.
И он быстро и легко снял сапоги.
— Женщина‑то совсем плоха. Должно быть, недавно родила и не убереглась. Не к знахарке её надо бы, а в больницу… И младенец — при последнем дыхании… А лошадёнка‑то у мужика рухнула и не поднялась. Эх, терпеньем изумляющий народ!..
— До поры, до времени!.. — заволновался Костя и погрозил кому‑то своей здоровой рукой. — Мы и терпели и дрались… Потерпим до новой драки… Хвалиться терпеньем нечего: лошадь‑то вон больше нас терпит, да доля её — в грязи подыхать, а человек живой верой живёт…
Мил Милыч в толстых шерстяных чулках сидел на табуретке у печи, недалеко от двери, и, опираясь ладонями о колени, думал о чём‑то, улыбаясь в бороду.
— Вот это правильно. Именно так. Верой живёт народ. Терпит — значит верует, а верует — значит всё вынесет. А во что верует? Не в бога, не в чёрта. В себя верует, в силу свою великую, в счастье своё, в будущее… Об этом и сказки создал. У кого есть такие сказки, как сказки о жар–цвете, о жар–птице, о разрыв–траве?.. Ни у кого нет. Вот в этой вере я ещё сильней укрепился после одного испытания.
Феня налила из ковша воды в глиняный умывальник, который висел на верёвочке над лоханью, и учтиво пригласила Мила Милыча вымыть руки. Он послушно встал и подошёл к умывальнику. Елена Григорьевна не сводила с него глаз и вся светилась от волнения, словно увидела в нём что‑то новое, поразительное, о чём и не догадывалась. Необычна была и его словоохотливость. Феня стояла с холщовым полотенцем в руке и молчала, прикрывая ресницами глаза. Костя слушал внимательно и вдумчиво, как будто проверял каждое слово Мила Милыча.
— На Волге это случилось, под Вольском…
И он коротко, просто и буднично рассказал, как он целое лето работал в артели бурлаков: не скидая лямки с плеч, тянул барки от Астрахани до Нижнего.
— Лето тогда жаркое было, суховейное, словно и само небо горело. Из‑за степей Заволжья мутью летела знойная пыль. Кожа трескалась, слезились глаза. А мы, артелью человек в двадцать пять, — и молодые и пожилые, — в хомутах, привязаны были к длиннейшему канату постромками и тянули гружёную баржу вверх по Волге, тянули неделями, месяцами, с раннего утра до полуночи. Шли босиком по прибрежным камням, по топям, по зыбучим пескам. Ноги у всех покрывались ранами, разъедались водой и грязью, а плечи и грудь растирались до мяса. Кровью плакали люди. На этом страшном пути одни убегали, другие отставали от надрыва, а на их место пригоняли новых. Харчи были плохие и скудные, а заправилы на барже пьянствовали и бесчинствовали с приблудными бабами. В один из таких адовых дней, перед Вольском, бурлаки выбились из сил. Лица на них не было — все, как безумные, на арканах метались. Кто‑то заплакал навзрыд, кто‑то выл и задыхался от невыразимой ругани и проклятий. Рядом со мной — а мы впереди шли — тянул свою лямку молодой парень, смирный такой, старательный. Мечтал всё, что рассчитается в Самаре, воротится домой с деньжонками и женится. Вдруг, этак в полдень, когда, казалось, и дышать было нечем, а солнце жгло, как огонь, упал он под лямкой, как подкошенный. Люди переполошились, обомлели и совсем пали духом. На барже — тоже переполох, только пьяный. И тут меня словно осенило: ежели я слуга народа и долг мой — нести его бремя и быть впереди, надо отвратить их от ужаса, иначе мертвец убьёт их… Подхватил я тело парня, вскинул на плечо и крикнул всей грудью: «Братцы! Друзья! Вперёд! Ведь мы же русские люди, а русский народ никогда не падал духом. Не бросим товарища, а с честью донесём его до могилы…» И пошел с лямкой и мертвым телом, а за мной все пошли, со стонами, с надрывом пошли, словно это я потянул всех за собой своей лямкой. А может быть, приковал их к себе труп товарища на моем плече…