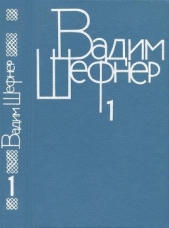Том 9. Повести. Стихотворения

Том 9. Повести. Стихотворения читать книгу онлайн
Девятый, и завершающий, том Собрания сочинений В. П. Катаева составляют четыре повести, написанные им во второй половине 60-х годов. Эти произведения образуют своеобразный повествовательный цикл, единый по стилевой манере, лирической теме, идейной направленности. Кроме повестей, в девятый том включены также и стихи автора, отобранные им из публикаций разных лет, начиная с юношеских и завершая стихами последнего времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стоять в неряшливых стоптанных ботинках перед «Откровением святого Иоанна» Эль Греко или перед «Мадам Шарпантье и ее детьми» Ренуара, где чернобровая дама в черно-лиловом шелковом платье, с черно-лиловыми глазами и черно-лиловыми волосами, а сама вся как бы сделанная из парижского сливочного масла, и две прелестные, похожие на нее маленькие девочки в голубых платьицах, а также лежащий на ковре сенбернар с черно-лиловой шелковой шерстью с белыми пятнами, как бы рифмующийся с самой мадам, — все они вместе — мадам, девочки и собака — как бы являлись высшим проявлением той богатой, артистической, недоступной парижской жизни конца века, в присутствии которой находиться в нечищеных башмаках было бы равносильно святотатству. Я уже не говорю о хохочущей, разорванной на куски лошади и потрясающей электрической лампочке, вспыхнувшей в последний раз перед всеобщим атомным уничтожением на панно Пабло Пикассо «Герника» в Артмузее. На панно — черные, как звездное небо, лестницы и полы ведут вас к громадному окну, выходящему во внутренний двор, где вы вдруг видите посредине безукоризненного, чистейшего ярко-зеленого газона три древнерусские березки с плакучими нестеровскими ветвями и шелковисто-белыми, девственными стволами, украшенными черными черточками и полосками кисти самых лучших абстракционистов, может быть, Малевича или даже самого Кандинского.
Разве мог я решиться осквернить все это своими нечищеными мокасинами?
А незнакомец стоял возле будки и, стараясь заманить меня в свое логово, делал разнообразные знаки и на разных языках пытался вырвать у меня согласие почистить обувь.
— Инглиш?
— Но!
— Итальяно?
— Но!
— Суэден?
— Но.
Это было все, что он мог мне предложить.
— Франсе? — спросил я с надеждой.
— Но! — в свою очередь, ответил он и легонько подтолкнул меня плечом к фанерной двери своей будки.
— Дейч? — спросил я с отчаянием.
Он горестно развел короткими руками и, в свою очередь, спросил:
— Испано?
— Но, — удрученно ответил я.
Это был пожилой, обрюзгший человек с одышкой, в заношенном пиджаке, в помятой сорочке с отстегнутым воротничком, и крупная медная заколка, позеленевшая от времени, натерла на его шее красное пятно. У него была плешивая голова, мешки под глазами, как у старого сердечника, от него исходил дурной запах итальянской кухни — лук, жаренный на прогорклом оливковом масле, и тертый чеснок. Он был небрит. Типичный нищий-неаполитанец, лаццарони, состарившийся где-нибудь в лачуге на Санта-Лючия. Но он не был суетлив. Напротив. Он был малоподвижен, потому что каждое движение заставляло его астматически вздыхать — со свистом и бульканьем.
— Руссо? — безнадежно спросил я.
— Но, — с одышкой ответил он.
И мы оба вспотели.
Он подтолкнул меня к высокому креслу и помог мне на него вскарабкаться, как на трон. Таким образом, мои мокасины оказались на уровне его серого небритого подбородка, форма которого могла сделать честь любому римскому императору, и он бросил на мокасины презрительный, но вместе с тем и алчный взгляд.
У нас не было общего языка. Вторая сигнальная система как бы отсутствовала. Друг для друга мы были глухонемые. Мы должны были объясняться жестами или движением лицевых мускулов, как мимы. Этот старый итальянец оказался прирожденным мимом.
— Ну, эччеленцо, почистим? — спросило его брезгливое лицо.
— А сколько это будет стоить? — безмолвно спросил я, делая самые разнообразные телодвижения и жесты, и даже нарисовал в воздухе указательным пальцем вопросительный знак.
Он понял.
— Двадцать пять центов, — сказал он комбинацией лицевых мускулов и для верности буркнул по-английски: — Твенти файф.
Я не поверил своим ушам и, несколько преувеличенно изобразив на своем лице ужас, спросил бровями, щеками и губами:
— Как! Двадцать пять центов? Четверть доллара за простую чистку?
— Да, — с непреклонной грустью ответили мешки под его глазами.
— Почему так много? — воскликнули морщины на моем лбу. — Варум? Пуркуа? Уай?
Он величественно — как Нерон на пылающий Рим — посмотрел вокруг на старые, наполовину уже разрушенные дома этого квартала, где в скором времени должен был вырасти грандиозный, ультрамодернистский Музыкальный центр, и ответил мне целой серией жестов, телодвижений, гримас и сигналов, которыми без слов изобразил исчерпывающую картину нью-йоркского летнего воскресенья с его слабым колокольным позвякиваньем, пустотой, зноем, безлюдьем и законами о запрещении воскресной торговли.
Я понял: все вокруг заперто, почистить обувь негде, он специально отпер для меня свое предприятие и рискует неприятностями с профсоюзом, и я должен платить по двойному тарифу. Я посмотрел на свои ноги и окончательно убедился, что провести в такой обуви нью-йоркское воскресенье просто неприлично, — и смирился.
— Хорошо, — сказал я. — Ладно. Идет. Бьен. Уэл.
Тогда он неописуемо ленивым движением достал щетку и двумя скорее символическими, чем реальными движениями утомленного аристократа смахнул пыль с моих мокасин, отчего они вовсе не стали лучше. Совершив это действие, он слегка передохнул и вытер носовым платком свою серо-буро-малиновую шею. Затем, порывшись на полках, где, как и во всех подобных заведениях земного шара, у него хранились разных сортов стельки, шнурки, подковки, винтики, шпунтики, шурупчики и прочая мелочь, он протянул мне пару шнурков в целлофановом пакетике.
— Купите! — сказало его лицо.
Ах, так этот старый мошенник хочет на мне нажиться? Ну уж дудки! Не на такого напал.
— Нет! — крикнуло все мое существо. — Но! Найн! Нон!
Он небрежно швырнул пакетик обратно на полку и показал мне глазами, которые вдруг стали игривыми, как у Бригелло, цветные портреты голых и полуголых красавиц, вырезанных из разных иллюстрированных журналов, причем возле каждой вырезки на стене были жирно написаны столярным карандашом пятизначные нью-йоркские телефоны с двумя литерами спереди.
— Может быть, это? — спросило его лицо старого сводника, но так как я в смятении замахал руками, он, облив меня презрительным взглядом, еще раз обмахнул мои мокасины, затем достал флакон, вынул пробку с проволокой, на конце которой был прикреплен ватный тампон, и слегка помазал аппретурой потертые ранты моих мокасин, после чего обмахнул их бархаткой и сказал жестом:
— Готово!
Как? Это все? Я не верил своим глазам. Но передо мною уже твердо лежала в воздухе его сизая, как пепельница, ладонь с черными линиями жизни, роговыми мозолями, венериными буграми и прочими деталями хиромантии. И я осторожно выложил на эту ладонь свою мелочь. Двадцать четыре цента. Я прощался с ними со слезами на глазах, как с родными детьми. Всё. Не хватало всего лишь одного маленького центика, медного клопика, почти не имеющего никакой ценности.
Однако старик смотрел на меня неумолимо требовательно, и его ладонь продолжала все так же твердо торчать перед моими глазами.
— Может быть, хватит? — сказало все мое существо, пытавшееся в тот миг как бы примирить славянский размах с американской деловитостью.
Но он даже не ответил мне, настолько он чувствовал себя хозяином положения.
— Двадцать пять центов, — с ледяным упорством говорила вся его фигура, ставшая чугунной.
Ничего не поделаешь! На его стороне, по-видимому, был закон или, во всяком случае, все силы профсоюзов. Я смирился. Мне, конечно, очень не хотелось менять свои тяжеленькие, красивенькие, серебряненькие полдоллара. Но ничего не поделаешь. Я был в его руках. Тогда я забрал с его жесткой ладони всю свою мелочь и положил вместо нее прелестную серебряную монету в пятьдесят. Он не глядя бросил ее в отвисший карман своего пиджака и, повернувшись ко мне согбенной спиной, стал убирать бархатки и щетки.
— А сдачи? — воскликнул я по-русски, чувствуя, что произошло непоправимое.
Он ничего не ответил, но его спина выразила, что сдачи не будет.