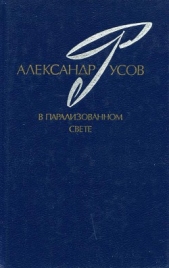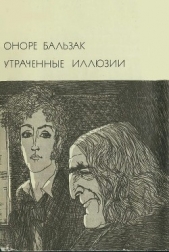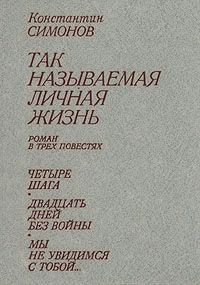Иллюзии. 1968—1978
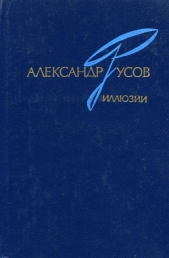
Иллюзии. 1968—1978 читать книгу онлайн
Повесть «Судья» и роман «Фата-моргана» составляют первую книгу цикла «Куда не взлететь жаворонку». По времени действия повесть и роман отстоят друг от друга на десятилетие, а различие их психологической атмосферы характеризует переход от «чарующих обманов» молодого интеллигента шестидесятых годов к опасным миражам общественной жизни, за которыми кроется социальная драма, разыгрывающаяся в стенах большого научно-исследовательского института. Развитие главной линии цикла сопровождается усилением трагической и сатирической темы: от элегии и драмы — к трагикомедии и фарсу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ему бы просто отвлечься, как следует отдохнуть, выспаться, набраться сил. Но он умел только работать, как вол, мучиться, покорять сердца женщин, безжалостно расходовать себя. Лариса рассказывала, что без дела он не мог просуществовать и двух дней.
— Как загнанный тигр начинал вдруг бросаться на людей. В основном на меня, конечно. Так что, собираясь в отпуск, я ему всякий раз напоминала взять с собой работу. Он смеялся: «Ты же не любишь, когда я работаю во время отдыха». Но иначе с ним сладу не было в течение месяца. Я засовывала в чемодан пачку бумаги и брала ту ручку, которую он особенно любил. Знаешь, как он написал свою главную формулу? Мы сидели вечером на кухне, пили чай. Павлик спал. О чем-то говорили. Да, вспомнила: о фильме. Там были удивительно сняты шумящие на ветру деревья. Листья, блики, небо — и ничего больше. Сидим, обсуждаем фильм, он шутит, смеется. Вдруг замолчал, взгляд остановился. Я испугалась. «Витенька, что с тобой? Тебе нехорошо?» Он словно проснулся, рассеянно взглянул на меня, вскочил и выбежал из кухни. Я за ним. Он сел за стол и что-то записал. Тогда я успокоилась.
На одной из фотографий Базанов на фоне костела — прямой, серьезный, руки по швам. Очки, полнота, солидность. Похож на кюре, выходящего из церкви после очередной проповеди. Остальные фотографии заграничного цикла куда менее выразительны.
Пытаясь понять причины его кризиса и перебирая в памяти свои собственные впечатления, то, что говорила о нем Лариса, он сам, Рыбочкин, я прихожу к выводу, что это тягостное состояние было не столько следствием творческих неудач, сколько их источником. Не наличие живой, важной работы служило условием его устойчивого душевного состояния, а как раз наоборот. Когда он был на подъеме, идеи, замыслы возникали и осуществлялись как бы помимо его воли. Открывались неисчерпаемые источники сил, желаний, энтузиазма. Существовала и какая-то обратная связь, но главные регуляторы, пусковые устройства, шлюзы находились, безусловно, в нем. Он сам по себе был лабораторией, заводом, плотиной.
Если бы он знал собственное устройство так же хорошо, как придуманную им теорию! Если бы кто-нибудь другой, имевший на него влияние, так бы его знал.
Мы пришли работать в институт почти одновременно. Его отдельность, отъединенность от других сразу бросалась в глаза. Потом он как-то затерялся в толпе. Или это только казалось? Со временем мы просто привыкли к нему.
Одна из первых наших встреч произошла на субботнике, шла весенняя уборка институтского двора. Я носился с аппаратом по территории, делал снимки для экстренного фотовыпуска, орудовал лопатой, таскал носилки с мусором.
Для фотогазеты требовались различные сюжеты: деловые, патетические, юмористические. Не ощущалось недостатка ни в смехе, ни в энтузиазме. Наш дружный молодой муравейник, предводительствуемый старшими муравьями-лидерами, был полон искреннего, естественного желания уложиться в возможно короткий срок. Наглядным отрицательным примером бросалась в глаза фигура, которая в одиночку, не торопясь, собирала какие-то щепки, бумажки и чуть ли не по одной носила их в общую кучу. Медлительность, а также несоразмерность внушительной внешности и совершаемой работы, которую участник нашего субботника выполнял с видимым неудовольствием, казались вызывающими.
Почему я все-таки не сделал тот снимок? У Базанова был жалкий, печальный вид. Скорее не лодыря и бездельника, а ослепленной, ходящей по кругу лошади, смирившейся со своей судьбой.
Позже его не раз упрекали в недостаточной активности, предлагали взять на себя какую-нибудь нагрузку, он отказывался или соглашался, но никогда не умел делать как следует то, что принято называть общественной работой. Отчасти это вредило ему и, соответственно, помогало Френовскому. В самый критический, опасный для Базанова момент он совсем отошел от такого рода деятельности.
Несколько лет спустя венценосному профессору тактично напомнили, что, мол, теперь, когда все его неприятности (всепонимающая улыбка) позади, нет никаких (разумеется, ранее весьма уважительных) причин уклоняться от общественных нагрузок, которые должен нести и несет каждый в меру своих способностей. Когда к Базанову пришли с этим, он ответил:
— Моя основная работа и есть общественная деятельность.
Ему заметили, что все, мол, работают и тем не менее находят же время, возможности, силы. Тогда он уточнил:
— То, чем мы занимаемся, — высшая форма общественной деятельности, — и не пожелал пускаться в дальнейшие объяснения.
Он умел так отвечать — с налету, дерзко, как бы и не о нем вовсе шла речь, а о ком-то другом. И ничего. Ему все сходило с рук. Другому бы не сошло, а ему сходило. Его оставляли в покое, не отягощали уговорами, не отнимали драгоценное время, которое резко начало падать для него в цене.
От него ждали новых научных свершений, а как раз их, этих свершений, не было. И об этом на всем белом свете знал он один. Окружающим казалось: свершает. Или: вот-вот свершит. А он ничего не свершал и, кажется, ни на что уже не надеялся. В этом заключалась главная его беда. Но только если раньше тот же Максим Брониславович торопил с практическими результатами, то теперь его никто не торопил — ни с практическими, ни с теоретическими. Потому что по опыту, тем же Базановым преподанному, знали: новое не рождается сразу, по плану, за один год. Оно должно отстояться, созреть.
Его не подгоняли бы, пожалуй, еще лет десять. Разработка очистительных сооружений, основанных на открытом Базановым принципе, обеспечивала тематикой едва ли не весь институт. Как нефтяной шейх, Виктор мог жить на одни проценты с дохода.
Его не то что не подстегивали — можно сказать, призывали к самой что ни на есть умеренной, спокойной жизни. Базанов ее заслужил. Представительство, консультации, отзывы, его квалифицированное, авторитетное мнение по тому или иному вопросу — разве этого недостаточно? В конце концов, «Лаборатория поисковых исследований» — только название. Конечно, чем-нибудь он непременно займется, не сможет сидеть без дела. Но кому нужна еще одна непонятная, заумная теория, когда не вполне ясно, что делать с этой? Ее одной хватит институту на много лет вперед. Кому нужно столько детей в наш век угрозы демографического взрыва?
Так что не торопили его не из каких-либо отвлеченно гуманных, альтруистических, но исключительно из деловых, практических соображений. Никто не заставлял спешить, кроме одного человека — его самого.
Возможно, я несколько преувеличиваю, хотя в главном, пожалуй, прав: его не мучили, он мучил сам себя.
Базанов хотел иметь много «детей», но наш институт заведомо не смог бы их всех трудоустроить. Уйти в другой, скажем, академический институт он тоже не мог. Здесь были его корни, судьба, его единственный ученик Рыбочкин и единственный враг Френовский. Да и кто бы дал ему лабораторию в Академии? Опять придется биться, доказывать, отстаивать. Перед кем? Зачем? Откуда брать силы?
Ему нужен был весь мир, а понять его могло всего несколько специалистов. Пусть даже несколько десятков специалистов — что это для него? Базановскому нутру, незаурядной личности с наклонностями пророка было невыносимо тесно в замкнутом пространстве конкретной темы, реальной цели. Ему было невмоготу от самого себя, от любых ограничений.
Когда мы оказались вместе в жарком, пустынном краю, где они с Рыбочкиным испытывали установку, Базанов повел себя странно. Часами разгуливал с непокрытой головой под палящим солнцем, когда все живое пряталось в тень, забивалось в прохладные щели, и чудо, что его тогда не хватил удар. Казалось, он получал физическое удовольствие от неистовства солнца, от музыки — этого тягучего воплощения стихии бесконечного, оттого, что и выжженную землю, и ходящих по ней людей, и гомонящих в зелени редких деревьев птиц — что все это нельзя ни понять, ни постичь, ни определить словом. Можно только приобщиться или не приобщиться, принять или не принять, слиться или не слиться.
— Кому нужна вся эта бравада? — урезонивал я его.