Дягимай
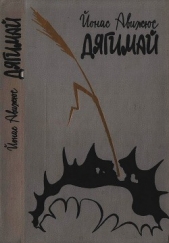
Дягимай читать книгу онлайн
Роман известного литовского прозаика, лауреата Ленинской премии Йонаса Авижюса посвящен современной литовской деревне. В нем на фоне событий, происходящих в деревне Дягимай, рассматриваются сложные задачи современности, уклад жизни литовского села, проблемы и перспективы его развития. Основное внимание автор уделяет духовному миру своих героев. В 1982 году роман «Дягимай» удостоился приза Общества книголюбов и Госкомитета по делам печати и полиграфии Литовской ССР как самая популярная книга года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стояла тихая безоблачная ночь. Слегка морозило. Рог месяца висел низко над лесом, затерявшись среди роя звезд, и Унте снова вспомнилось прошлое воскресенье — лунное сияние, белостволые березы. Юргита сидела рядом в санях и вместе с ним что есть мочи кричала: «Оп-ля! Опля-я-я!» Из-за высокого воротника отцовского кожуха сверкали ее загадочные глаза, такие радостные, чистые, ласковые, желавшие добра ему, Унте! Сидя за столом с мужиками в бане, он как бы чувствовал тот взгляд, видел, как Юргита подбадривает его улыбкой, как одобрительно кивает своей красивой головой всякий раз, когда он отводит от себя рюмку. Ох, как бы понравились ей обидные слова, которые он бросил в лицо этим старым выпивохам!
Унте постоял во дворе бани, протянул руки к усыпанному звездами небосклону. Сердце замирало, так было легко и хорошо, такой неземной благодатью захлестнуло грудь. Когда он зашагал, то совсем не чувствовал ног, казалось, выросли у него крылья и он летит по усеянному звездами небосводу, где только он один — господь и владыка. Никому другому не было места в той пугающей бесконечной дали, куда с замиранием сердца смотрел Унте, любуясь неяркой, как бы пробившейся сквозь солнечное марево, непередаваемой картиной, которая переливалась, то отдаляясь и тускнея, то приближаясь и вспыхивая так ярко, что, казалось, протяни руку и осязаемо почувствуешь ее, почувствуешь и станешь вдруг до боли ничтожным и вместе с тем как никогда великим, ибо то, к чему теперь прикован твой взгляд, то, что наполняет твою душу благодатью и радостью, создано для тебя, человека. Когда это удивительное видение, сотканное из каких-то бликов, исчезло и перед глазами снова повисло звездное небо, Унте заметил, что он довольно-таки далеко ушел от бани. От этих нализавшихся стариков, от бутылок с водкой, от соблазнительного звона рюмок. Отрубил дракону все девять голов!
И не почувствовал, как из груди вырвалась песня, — она широко и свободно неслась над равнинами, скованными зимней стужей.
VII
— Лучше бы мне не ехать на санях, — говорит Юргита. — А раз уж поехала, то зачем мы так мчались по березняку?
— Приятно было, вот и мчались!
— И мне было приятно, но теперь надо как-нибудь выбраться из снега. Вставай, Унте, вставай!
— Встаю, Юргита. Встал. Иду!
Ноги будто налиты свинцом. Юргита не приближается, а удаляется, словно вьюга ее подхватила, между тем Унте по пояс увяз в сугробе и не может сдвинуться с места.
— Ну и человек… Договориться невозможно! — ни дать ни взять голос Салюте.
— Со мной, что ли, Юргита? Хочешь, затяну ту, старинную, которую дед певал?
— Чего орешь как оглашенный? — сердится Салюте, зло тормоша мужа. — Надо же так расхрапеться. Ты что, не мог в избу зайти?
Унте и сам ошарашен. В самом деле, как же так вышло — сел на ступеньки возле дверей избы и дал храпака?
— Черт бы побрал это ночное культивирование, — бормочет он, пытаясь подняться, но ноги как деревянные. — Успели бы и так посеять, по-людски. Вечно спешим, мчимся, высунув язык, как собаки. Невыспавшиеся, осоловелые… Тьфу! Пожрать и то некогда.
— Пожрал бы, ежели бы захотел, — не унимается Салюте. — Завтрак еще теплый был, когда ты домой явился. А ежели остыл, то мог согреть, не барин.
— Что верно, то верно, не барин, — идет на мировую Унте, чувствуя себя как бы виноватым перед Салюте. — Но вот присел на ступеньку — и как мертвый. Мотаюсь по восемнадцать часов в сутки туда-сюда, ты не думай, не филоню.
— Разве я говорю, что филонишь? Ну уж ежели в такое время явился, то мог бы калитку открыть, чтобы утки к пруду пошли, — упрекает его Салюте. — Никогда ничего не сделаешь, все на мою бедную голову. Вечно напоминай, проси, подсказывай.
Унте сладко потягивается, весь еще во власти сна. Упреки Салюте до чертиков ему надоели, но сейчас он к ним относится снисходительно, улыбается.
— Так что, говоришь, надо сделать? — спрашивает он, покорно следя за женой. — Свинья, наверное, снова загородку опрокинула?
— Да разве дело в загородке? Посмотри, как у других красиво. Какие изгороди, какая чистота в усадьбах. А у нас черт ногу сломит. Хорошо еще, что отец жив, тут приколотит, там приберет, а тебе все равно, даже если бы мы совсем одичали, чертополохом заросли.
Унте хочется возразить, что усадьба Гиринисов никогда не была и не будет последней в Дягимай, но Салюте — истинную дочь Пирсдягиса — не переговоришь. Поэтому Унте ничего не отвечает, направляется к газовой плитке и чиркает спичкой.
— Пришел бы раньше, поел бы как человек. А теперь ни то ни се — ни завтрак, ни обед.
— Я сладко поспал, стало быть — завтрак. — Лицо Унте расплывается в добродушной улыбке. Даже удивительно: отчего ему так хорошо?
— Да ты и говоришь как во сне, — шипит Салюте: хорошее настроение Унте ее просто бесит.
— Может, я и впрямь еще во сне, — говорит Унте, зажмуривается, мечтательно улыбается и вдруг неожиданным вопросом совершенно сбивает с толку жену: — А что ты скажешь про мой голос?
затягивает он так, что все вокруг дрожит.
— Как в пуще… — не может прийти в себя Салюте. — Сдурел, что ли? А может, пьяный?
— А что ты, например, скажешь, если я трень-брень и в колхозный хор запишусь? Затягиваю первым голосом, что твой Виргилиюс Норейка:
— Дуралей ты, дуралей… — качает головой Салюте. — Не дразнил бы лучше, а помог скотину накормить.
Унте весело смеется, откинув голову.
— Помогу. Поем и помогу.
— Сперва выспись. Какой из тебя работник, ежели ночь напролет без сна.
— Успею.
Но Салюте упрямо гнет свое, и Унте ничего не остается, как поесть и растянуться на кровати.
Сквозь сон он слышит:
— Говорят, кто-то видел Фиму… Ну ту, первую жену Даниелюса… Работает на стройке. В медпункте.
— Фима? — откликается Унте.
— А ты чего удивляешься? Думаешь, Даниелюс ничего не значил для нее? Столько лет прожили вместе, вот ее и тянет поближе к нему.
— Пустое дело. Юргиту ей не переплюнуть.
— Может, и не переплюнет, но кровушку попортит.
— Загнала меня в кровать, а сама спать не даешь, — стыдит он ее, пытаясь скорее закончить неприятный разговор.
— Дрыхни, дрыхни. — Салюте оскорбленно замолкает и с двумя ведрами выходит за дверь.
Унте горько усмехается, вперив протрезвевший взгляд в облюбованный угол на потолке, где кишат — по настроению — самые разные и самые удивительные видения. Нет, теперь-то уж он точно не уснет. В голове мелькают разные картины: последнее гостевание Фимы и Даниелюса… Белая луна… березовая роща… испуганные черные глаза Юргиты… Габриеле… Товарищ председательша! Все время мимо проходила, гордая, прямая, словно аршин проглотила, а сегодня соизволила даже через всю деревню проводить… «Может, было бы и лучше, если б Даниелюс вернулся к Фиме… Тогда Юргита…» — вдруг приходит ему в голову такая неожиданная, такая несбыточная мысль, он краснеет до ушей и от досады стискивает зубы. Подлец и дурак! В самом деле, додуматься до такой глупости! Унте садится, снова откидывается на подушку и снова садится. Шипит от злости, словно добела раскаленный кусок железа, брошенный в снег. Внутри у Унте все кипит, он изо всех сил пытается отделаться от этих подлых, непристойных мыслей и наконец празднует над ними победу. Ах, хоть бы скорее кончился этот весенний сев. Зад прямо онемел от этой тряски на тракторе по ночам. А ведь еще по меньшей мере недели две так придется… Только дом, поля и трактор — замкнутый треугольник, ни одного свободного дня, который нужен не столько для того, чтобы передохнуть, сколько для того, чтобы вырваться из тисков этих серых будней и чтобы душа воспарить могла…

























