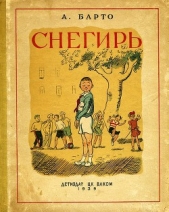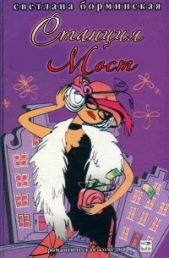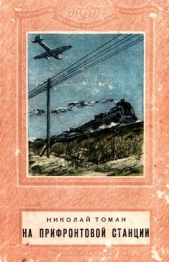Красногрудая птица снегирь
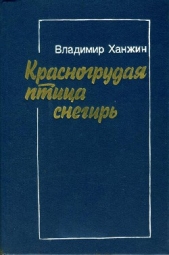
Красногрудая птица снегирь читать книгу онлайн
Железные дороги… О тех, кто связал с ними свою судьбу, вот уже несколько десятилетий пишет Владимир Ханжин. В этой книге два его романа: «Крутоярск-второй» — о героике эпохи реконструкции транспорта в 50-х годах, «Красногрудая птица снегирь» — роман, обращающий нас к сегодняшним проблемам железнодорожников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А в чем суть дела-то? — раздался выкрик в задних рядах.
Другие запротестовали:
— Сказано тебе, разберутся и доложат.
— Действительно, чего отвлекаться?
Но тот же голос в задних рядах не унимался:
— А может, самого Добрынина попросить?
Грянул хохот:
— Попросить?.. Вроде как на концерте!..
— Добрынина на сцену! — озорно крикнул кто-то из молодых.
— К роялю! Просим!
Зал зашикал на балагуров:
— Тише вы!
— Балаган из собрания устроили.
— Председатель, наведи порядок!
Кряжев постучал карандашом по графину.
— Продолжайте, Иван Кондратьевич. Только, пожалуйста, ближе к повестке дня… Благодарим за справку, Виктор Николаевич.
Секретарь партбюро направился к своему месту. Максим Харитонович проводил его взглядом. Овинский опустился на стул в пустующем первом ряду.
То ощущение отдаленности, оторванности от всего происходящего в зале, которое было у Добрынина, прошло. Он словно вернулся откуда-то на свое место в зале, на свой поскрипывающий стул. Теперь он слышал дыхание сидящих рядом, чувствовал на себе их осторожные взгляды.
Овинский был совсем недалеко — всего лишь на три ряда впереди. Максим Харитонович видел беспорядочные завитки волос на худой, давно не стриженной шее, впадину на спине, пониже выпирающей лопатки. Он различал это так же ясно, как ясно ощущал в себе неулегшуюся дрожь. Но это была уже иная дрожь, иное волнение. Не то радость, не то жалость поднималась в нем; радость не за себя, вернее, не столько за себя, сколько за Овинского, и жалость не к себе, а к Овинскому — к его обросшей, худой шее, к его костистой спине и к тому, что он сидел отдельно от всех в пустующем первом ряду…
Городилов невозмутимо переждал, когда собрание окончательно утихомирится.
— Не зажимайте демократии! — бросил он в президиум. — Критика есть движущая сила партии… Между прочим, нам известно, товарищ Кряжев, что вы мастер эдак, знаешь… перед начальством… Зато вам всегда наилучшие условия создают…
В зале недовольно загудели. Иван Кондратьевич поднял руку и успокаивающе помахал ею. Шум угас — на людей действовала несокрушимая городиловская самоуверенность.
Перелистав тетрадку, Иван Кондратьевич продолжал:
— Вы наглядно убедились, товарищи, что партийное бюро депо во главе с товарищем Овинским плетется в хвосте у Добрынина. Отчего? — напрашивается вопрос. Даю конкретный ответ: оттого, что сам товарищ Овинский…
Он и тут не покривил душой: ничего не добавляя от себя, ничего не искажая, сообщил лишь то, что ему было известно от Соболя.
Зал замер.
— Прошу слова в порядке ведения собрания, — пробасил Лихошерстнов.
Петр Яковлевич сидел в президиуме крайним к трибуне. Поднявшись и отойдя немного в сторону от стола, он оказался вблизи щупленького и низенького перед ним Городилова.
— Мне кое-что известно о семейных делах Виктора Николаевича, — начал Лихошерстнов. — Когда его рекомендовали нам, я был в Крутоярском горкоме партии, ну и там мне рассказали. Не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу только, что я лично Овинскому не завидую.
Он шумно вздохнул, потер подбородок и продолжил:
— Я не счел нужным информировать об этом широкий круг коммунистов, потому что, во-первых, этот вопрос не всплывал, а во-вторых, душа человеческая не навоз, топтаться в ней зря нечего. Но факт остается фактом — я не проинформировал. И раз уж ты, товарищ Городилов, взялся сегодня выдавать всем богам по сапогам, то ставь и меня в ряд штрафников. Только что это тебе вдруг приспичило в сей секунд столь сложные вопросы чохом решать? Это ведь не старые курятники рушить. А как же повестка дня? Как же зима? Побоку?.. Предлагаю от повестки дня не отклоняться. Все вопросы, поднятые товарищем Городиловым, изучить партийному бюро с привлечением актива и доложить на следующем собрании.
Иван Гроза вскинул на Лихошерстнова остренькое свое лицо и цепко, словно клещами, схватился за края трибуны.
— Хитер, Петр Яковлевич! Только не выйдет! Товарищ Кряжев, защитите партийную демократию.
Кузьма Кузьмич встал. Он волновался, даже слегка побледнел.
— Что ж, проголосуем: кто за предложение Петра Яковлевича?
Руки поползли вверх. Сначала их было не настолько много, чтобы заключить, что предложение принято, но постепенно лес рук густел.
— Большинство, — констатировал Кряжев. — Продолжайте, Иван Кондратьевич, но учтите волю собрания.
Иван Гроза будто не слышал замечания Кряжева.
— Ясно-понятно, товарищи, — снова начал он по тетрадке, — когда руководители разложились в быту…
Кряжев застучал карандашом по графину.
— Иван Кондратьевич, ваши утверждения бездоказательны.
Городилов обвел зал торжественно-строгим взглядом.
— В обстановке грубого зажима критики я отказываюсь выступать. Запишите это в протокол.
Он сложил тетрадку, засунул ее во внутренний карман кителя, застегнул пуговицу и только тогда спустился с трибуны.
— Товарищ Сырых, — назвал Кряжев очередного оратора.
Прения продолжались, но собрание размагнитилось, утратило единство. То тут, то там шли пересуды: одних терзало любопытство, другие были искренне обеспокоены, а третьим просто не терпелось перекинуться парой слов на щекотливую тему.
— Смазал-таки нам собрание, герой трибуны, — хмуро поглядывая в зал, процедил Лихошерстнов.
По окончании собрания Овинский, сделав вид, что он обдумывает и пишет что-то срочное, подождал, когда клуб опустеет, и лишь тогда, быстро, чтобы избежать встреч и разговоров, пошел к себе в общежитие.
Против окна, на улице, покачиваясь от ветра, горел фонарь, и свет его, падая в комнату, тревожно ползал по стенам.
Не зажигая в комнате электричества, Виктор Николаевич долго лежал на неразобранной постели. Заново переживая все случившееся на собрании, он с особенной горечью вспоминал не выступление Городилова — хотя оно тоже больно задело его, — а самое начало собрания, когда выбирали президиум, и когда ему, секретарю парторганизации, пришлось уйти со сцены, уступив место избранным. Хотя и прежде бывало, что его не избирали в президиум собраний, сегодня он увидел в этом эпизоде своеобразную итоговую оценку своей деятельности в депо, и, никого не виня, ни в чем не ища оправдания себе, он пришел к выводу, что ему надо уйти отсюда. Он с особенной отчетливостью убедился вдруг, как надломило его личное несчастье. «С горем в душе, — размышлял он, — ты не партийный работник. С горем в душе ты можешь быть инженером, диспетчером, ревизором — кем угодно, но какой из тебя организатор и воспитатель масс».
Чтобы не допустить лишних разговоров, обсуждений, он решил прежде подыскать себе какое-то место в городе, а затем уж сообщить кому следует о своем намерении.
«Вот так-то, дорогой мой, — с усмешкой обращался он к себе, глядя на ползающий по стене свет уличного фонаря, — в мечтах-то ты был орел, а на деле оказался мокрой курицей».
Наступил октябрь с его промозглыми, унылыми днями и длинными, вязкими, словно копоть, ночами. Иногда веяло морозцем, но осень заглушала те первые, несмелые знаки, которые подавала людям зима.
Под серым небом неисходной сырости обесцветились, поблекли в Лошкарях дома, палисадники. За домами — обезображенная, перекопанная земля огородов, бурая картофельная ботва. Нахохлившиеся куры нехотя бродили по голым грядам.
Низкое небо придавило горы. Мир сузился; нет более синих зовущих далей, нет бескрайнего, невесомого, напоенного ароматом лесов воздуха.
Скверный месяц, грустная пора.
В один из таких октябрьских сырых и холодных дней, когда жители Лошкарей занимались своим делом — отправляли поезда или ремонтировали паровозы, засыпали на зиму в погреб картофель или кололи дрова, пекли шаньги или толкались в магазинах, сидели за школьными партами или озабоченно шмыгали розовыми носами, выбирая книжку в библиотеке, — когда жизнь текла своим порядком и своим порядком моросил дождь, а свинцово-серое небо царапалось о голые вершины берез, — в один из таких обычных октябрьских дней со станции на весь поселок прозвучал диковинный голос. Был он резкий, полнозвучный и красивый. Будто растянул кто-то сказочно огромный баян, нажав сразу на три-четыре пуговицы, и три-четыре голоса, слившись в один, пропели согласованно и стройно.