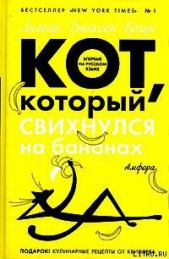Старинная шкатулка
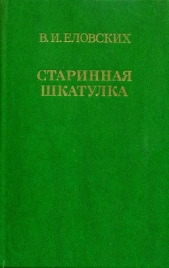
Старинная шкатулка читать книгу онлайн
В книгу старейшего писателя Зауралья вошли рассказы и повести разных лет. Некоторые из включенных в сборник произведений ранее увидели свет в издательстве «Советский писатель».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, сколько надо будет, столько и поживу, — ответила Вера Петровна и подумала: «Ты только этого и ждешь».
Сестры! Какие они сестры. Только считается, что сестры. Ничего общего. Зоя с раннего детства была тихоней, хныкалкой и ябедой, любила подмазываться к отцу и матери. А Вера была бойкой и прямой. Помнится, постная рожица Зойки смешила ее, и она, бывало, шутки ради, возьмет да и щелкнет сестренку по шее или пнет ее в сидячее место, так, слегка, одно название, что щелкнула, пнула. Шуму!.. Зойка ревет, мачеха орет, бежит за падчерицей с ремнем, палкой или скалкой — что попадет под руку. Падчерицу она не любила, что уж говорить, смотрела на нее без утайки как на чужую; самый вкусненький кусочек — Зое, самую грязную, тяжелую работу — Вере. Прямо как в старых сказках о Золушке. И хоть бы постеснялась и делала свое дело незаметно, нет: «Зоя, на-ка, поешь. Вкуснень-кое!», «Верка! Ты чо тут расселась? Кто за тебя робить будет? Морда кирпича просит, а все как робенок!», «Отец! Лупить надо, эту Верку…» И если бы не отцово заступничество («Да успокойся, мать. Ну, повздорили девчонки маленько, помирятся»), было бы худо. Отец на заводе, а мачеха-то дома все время…
Жить с мачехой не хотелось и, кончив семилетку, Вера подалась в областной город. Ну, а потом чего только не было: работала токарем и занимала койку в бараке (сырая, вонючая комнатушка на шестерых), побывала на фронте, после войны вышла замуж и уехала с мужем в Забайкалье, где долго мотались по частным квартиркам, жили в убогой хатенке-насыпушке, кое-как слепленной из досок (земля между досками осела, и стены были мокры, склизки, холодны). С полгода ели гнилую картошку и болтушку из муки. Муж в этой хатенке-насыпушке и помер. В армии — траншеи, землянки. И — ничего. Будто так и надо. Даже вспоминать вроде бы приятно. А вот после войны тяжелая жизнь раздражала ее. И обижала. Когда она заочно окончила техникум, когда ей перевалило далеко за сорок и волосы стали наполовину седыми, фортуна повернулась к ней: Вере Петровне дали на заводе квартиру с удобствами и перевели на инженерную должность. Тогда она все время торопилась — и в цехе, где ей, ко всему прочему, понадавали уйму общественных нагрузок, и на улице (она жила далеко от завода), и даже дома, когда, казалось бы, можно и отдохнуть. Ускоренный ритм, навязываемый цехом, так просто не сбросишь; жила больше надеждами (дескать, ладно, пока как-нибудь, а уж потом, в будущем!), и в этом была ее ошибка: надежды исчезли, будто и не было их, пришла старость, уже без радужных ожиданий, с мучительными сожалениями. Жила бы, как все, радуясь, что ходишь, видишь, дышишь…
Отец поначалу как-то странно равнодушно относился к ней: уезжаешь, ну и уезжай, выходишь замуж — выходи, живешь без квартиры — ничего, потерпи, бывает, но с годами стал внимательнее, все больше и больше радовался ее приезду, и было видно, что он теперь даже гордится ею: дочка вышла в люди, почти что инженер. Несколько раз приезжал к ней, и ему все нравилось там: и город, и квартира, и Верины сослуживцы, люди все дипломированные, солидные, обходительные. Старик внимательно приглядывался к дочери, как бы изучал ее, и это забавляло Веру Петровну.
Отец хорошо зарабатывал, были у него и огородишко, и корова, и овечки, и курицы, все было — и денежки, когда-то понемногу, когда-то помногу, но беспрерывно текли и текли от отца и мачехи к Зое и ее отпрыску Леониду. А о Вере забывали, будто ее и не было на свете: «Вера не возьмет. Ей не надо». Дескать, бойкая, пробьется. И она бог знает где. А тихоня Зоенька рядом, тут. И с ребеночком. У всех вызывает сочувствие. Муженек пожил с ней года два и погиб при автомобильной катастрофе, он был шофером. Правда, когда Вера приезжала, отец и мачеха иногда совали ей какую-нибудь мелочь — баночку варенья или десяток яичек или стакан сухих грибов, но она всякий раз отказывалась, стеснялась брать, и стеснительность прикрывала грубоватым смешком: «Да что я побираться приехала?» А сама всегда привозила им богатые подарки — то костюм, то пуховую шаль, то плащ, то пыжиковую шапку, то отрез на платье, а то еще что-нибудь дорогое и нужное им.
Пенсия у нее невелика. И тут все ее доходы. А ведь еще лечиться надо. Вера Петровна к тому же какая-то непрактичная и часто оказывается в дураках. Весной одолжила соседу-пенсионеру последние полсотни рублей, и он до сих пор не отдал их: «Нету пока, матушка. Отдам, отдам!» А где уж отдаст: пить начал, каждый день на взводе. Раньше сама белила и красила в квартире, а нынче вздумала нанять маляров, уже тяжеловато самой. Пришли, побелили. «А стены на кухне и в коридоре уж завтра покрасим. А то вон как упластались. Ты уж расплатилась бы с нами. Завтра все сделаем честь по чести». Нате, берите! Ушли и — поминай как звали. Сама добеливала, докрашивала.
Может, когда-то в чем-то Вера Петровна и ошибалась, что-то делала не так, как надо, все может быть, но никогда не желала она зла людям, была бойка, шумлива, добра и покладиста, и мысли об этом, теперь на старости, согревают ее. У нее старообразное с глубокими морщинами (кожу будто надрезали) мясистое лицо нездорового землистого цвета — даже самой неприятно смотреть. Не то что у Зои. Та моложава.
Покормила отца, и он уснул. Во сне он все время хрипло выкрикивал что-то бессвязное, звал кого-то, спорил с кем-то — ничего не поймешь, глухо стонал и ойкал; просыпаясь, просил дать воды, пытался сесть, отчего старая железная кровать невыносимо сильно и как-то болезненно скрипела, и Вера Петровна, привыкшая у себя дома к тишине и одиночеству, никак не могла заснуть. Ей все казалось, что он пробудился (она лежала в другой комнате). Подбегает. Нет, спит. Кажется, опять зовет. Нет, во сне… Дышит уже совсем тяжело. И вдруг утихает, не дышит вроде бы. Умер!!! Веру Петровну обдает холодом, она начинает тормошить старика: «Папа, что с тобой?!» Опять дышит. Потом дыхание снова исчезает. И так без конца. Он все время сползал с кровати, и Вере Петровне казалось, что отец свалится на пол и разобьется.
— Вер, а, Вер!
Подошла. Спит. Во сне видит дочь.
— Вера! Плохо мне. Ой, плохо мне!
Это уже не во сне.
Она так испугалась, что, когда вызывала «скорую», то не сразу назвала номер дома, все вылетело из головы, и женщина на другом конце провода поторопила ее: «Говорите быстрее!»
— Дай мне, Веронька, руку.
Это была тяга умирающего к живому. Все отживающее тянется к живому.
— Успокойся, пожалуйста, успокойся! Сейчас приедет врач и все будет хорошо. Все будет хорошо! Он уже едет. Успокойся!
Врач «скорой», флегматичная, неторопливая женщина, сказала Вере Петровне с легким раздражением:
— Ну, что вы паникуете? — Указала рукой на старика: — Возраст!
Вера Петровна не раз еще услышит это слово — «Возраст» (что, мол, поделаешь!) и от соседок, и от медсестры, которая ставила Петру Андреевичу уколы, и от Зои.
«Почему они такие равнодушные? Почему все мы смотрим на смерть в старости как на что-то самое простое, обычное? Смиряемся со смертью…»
Вера Петровна приглашала то одного, то другого врача, и их уже начинали злить ее назойливость, ее бесконечные приставания и просьбы; давала отцу лекарства, бегала по магазинам и базару, выискивая, что бы купить для него; успокаивала, веселила старика, как могла, и с ужасом видела, что все без толку — отец с каждым днем хилел, слабел, какая-то неведомая и в то же время неумолимая жестокая сила тянула и тянула его из жизни. И невольно вспоминалась старинная, давно вроде бы уже забытая русская пословица: от всего вылечишься, кроме смерти. У Веры Петровны было чувство крайней подавленности и тоски — ей было страшно за себя. Отец, как тень, — живет, не живет. Почему же ей так мучительно жалко его?
Перед утром он проснулся и, громко дыша, долго глядел куда-то в угол, думая о чем-то своем.
— Ты о чем думаешь?
— О боге, — прохрипел он.
Когда ей было лет десять, отец снял с божницы простенькие деревянные иконы и начал их торопливо рубить топором на мелкие части; рубил и совал в железную печечку, где горели дрова; железянка грозно гудела и завывала. На печке лежали картофелины, разрезанные на тонкие ломтики, — ужин для их семьи. Отец рубил, а мачеха крутилась возле и, охая и злобно дыша, пугала его адом и чертями. «Картошку эту я есть не буду, так и знай!» А он кряхтел и рубил, кряхтел и рубил. Отец никогда не вспоминал о боге.