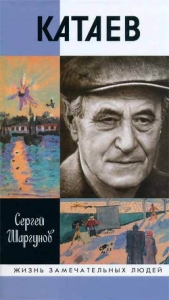Сердце: Повести и рассказы
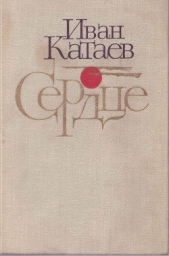
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На кухне, среди вздыбленных кверху ножками стульев, кроваво-полосатых тюфяков и потоков вспененной воды, инспектор на гладильной доске, положенной поперек окоренка, составил укоризненный акт. Напрасно Савва, бормоча насчет дороговизны строительных материалов и неисправного платежа жильцов, совал судебный исполнительный лист, свою пенсионную книжку с отметками о тридцатисемирублевом пособии и справку о сорока годах производственного стажа, — все домовые изъяны были неукоснительно занесены в акт, а заключение инспектора и скрипнувший росчерк его вечного пера не оставляли никакой надежды. Адольф Могучий, стоявший подле, вежливо осведомлял со своей стороны, что принадлежность Пантелеева к индустриальному пролетариату более чем сомнительна, поскольку старик в данное время торгует всякой рухлядью на Тишинском рынке, и что все вообще арендаторское семейство находится на грани полного морально-политического разложения. Понизив голос до почтительного шепота, он сообщил, что старший сын Пантелеева за причастность к оппозиции был в свое время исключен из партии и только в прошлом году возвратился домой. Инспектор молча выслушал все это, сложил акт и, щелкнув замочком портфеля, направился к выходу. Могучий, легко ступая ботинками в серых гамашах, кинулся за ним, но на пороге быстро обернулся, показал Савве язык и, погрозив кулаком, скрылся.
Старик весь день молчал. Вечером, притащив, как всегда, два ведра воды с колонки и заложив корму боровку, помещавшемуся в дровяном сарайчике, он улегся спать на своей узкой койке; как всегда, повернулся лицом к стене. Всю ночь в комнате шло движение. Поздно вернулась из кино младшая дочь, комсомолка Зина, и, лукаво косясь в сторону спящей матери, на цыпочках, чуть пританцовывая, прошла к себе за перегородку. Последний сын, Валька, второступенец, хромой от детского паралича, большеротый, с нежными глазами горбуна, часов до двух сидел за столом над «Тремя мушкетерами»; дочитал до конца, долго и неподвижно смотрел прямо перед собой, изредка пошмыгивая носом; отсветы добрых улыбок скользили по его лицу; потом осторожно пробрался к широкому продавленному, в горах и ямах, дивану, повернул поблизости выключатель; не раздеваясь, ничем не покрывшись, свернулся на диване, тотчас же заснул. Среди ночи заплакала во сне шестилетняя внучка Эдвардочка, бабушкина вырощеница. Старуха встала к ней, долго уговаривала, поправляла одеяльце; подошла к дивану, тихонько потрогала Валькин бок и, покачав головой, на минуту зажгла свет, укрыла сына его пальтишком. Под утро, когда тихий апрельский рассвет едва заголубел в окнах, поднялся, скрипя складной кроватью, Алексей, старший, — тот самый, — тоже зажигал электричество, чтобы взглянуть на будильник, — оделся, ушел в свое депо, на Виндавскую дорогу. И всю ночь, когда горел свет, можно было видеть толстый розоватый затылок старика с твердым седым ежиком, всю его крепкую круглую голову — как она лежит спокойно и простодушно, вдавившись в пожелтевшую наволочку.
Утром старуха, поставив в кухне чайник на примус, вернулась в комнату и, как было заведено, окликнула мужа:
— Вставай, Савва, седьмой час.
Старик не отозвался, и она, подойдя к кровати, легонько потрясла его за плечо.
— Савва, пора, вставай.
Уже одно это прикосновение к плечу создало в ее пальцах странное, дикое ощущение неподатливости, полной чуждости. Крупно затрясшейся рукой старуха откачнула на спину это отяжелевшее тело, страстно ощупала влажнохолодную шею, грудь, щеки. Тут она шарахнулась и закричала...
Савва отошел во сне, в безмолвных бурях угрожающих сновидений; потрясенное сердце его на переломе ночи в последний раз слабо толкнуло кровь и застыло.
В девятом часу, зажав в потной ладони три гривенника, Валька уже звонил по автомату из аптеки в город, на квартиру к брату, инженеру. Ему же поручено было оповестить и всю остальную родню.
Пыльное окно, выходившее в сени, раньше было заслонено изнутри высокой спинкой дивана. Теперь диван вынесли, и все съезжавшиеся на похороны, вступая в сени, сразу видели в это окно угол выкрашенного яркой охрой гроба, бумажное кружевце изголовья, узнавали широкое седое темя и за ним отодвинутые незнакомой светлой пустотой выцветшие обои комнаты. Гроб был поставлен высоко и, казалось, вылетал, изголовьем вперед, в верхнее стекло окна.
Небывалой пустотой и светом опахивала комната и тогда, когда, протиснувшись в ее дверь из прихожей, созерцательно замирали у порога. Праздничное яснейшее утро всем размахом небосклона, всей широтой горящего солнцем шоссе легко входило в три распахнутых окна. Отдуваемые внутрь свежим ветерком, колебались кисейные занавески; прозрачные, почти невидимые язычки свечей отгибались назад и опять выпрямлялись, иногда захлопывалась неприпертая створка рамы, и стрекозиная тень на миг застилала желтый солнечный ромб на полу. Улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха, настигающе звенела трамваями, шуршала и погромыхивала по асфальту. Ленинградское шоссе уносилось вдаль, вдаль, сквозь дачные пригороды, парки, леса, кочкарник, болота, — на сотни километров вдаль, в туманы севера; всей протяженностью своей оно свидетельствовало о бесконечности жизни, о слитности ее мгновений и частиц. Каждый автобус, который обрушивался, проносясь, в тишину комнаты, как бы увлекал ее за собою восторгом добродушного, запыхавшегося существа.
Савва в новой, белого с полосками ситца, косоворотке и коричневом пиджаке, возлежал почтенно, прикрытый по грудь ветхим и мятым парчовым покровом, отражая сияние утра белизной запрокинутого лица. Старческий румянчпк на круглых щеках, всегдашние багровые прожилки теперь исчезли, щетинка бритого подбородка ровно серебрилась... Савва был бы вполне благообразен, если бы не губы, выпяченные, будто в капризном ожидании поцелуя.
Слободские старушки любительницы, соседки, забежавшие с сумкой между двумя очередями, толпились поодаль. Один Валька сидел на стуле возле гроба — такой же как всегда, с расстегнутым воротом рубахи, неподпоясанный; близоруко сгорбившись, он неотрывно читал «Десять лет спустя». Старшие сестры, брат, проходя мимо него за перегородку, трогали его за плечо, проводили ладонью по голове, вполголоса уговаривали оставить чтение, идти с ними: неудобно так... Валька, не отрывая глаз от страницы, молча мотал головой и не двигался с места.
О Вальке же первым делом недоуменно справлялись, входя за перегородку и здороваясь с собравшимися там близкими. Мать, высокая, прямая, заплаканная, с приподнятым от многих деторождении: животом, отвечала слабым голосом, грустно и любовно усмехаясь:
— С раннего утра сидит. Не отходит, думает, видно, так надо. А уж почему с книжкой, бог его знает, — наверное, тоже хочет выразить отрицание к религии. — Вздохнув, она говорила извиняюще: — Пускай себе сидит, его не осудят, маленький еще.
Тотчас же на новоприбывших набрасывалась с гневными нашептываниями об Адольфе Могучем вторая дочь, Капитолина, заведующая клубом на кондитерской фабрике, румяная, курносая, в пенсне, в английской кофточке, похожая на фельдшерицу.
Она приехала сегодня раньше других, обнявшись, поплакала с матерью, после чего та повела ее на кухню л боязливо показала объявление, которое Могучий только что прилепил хлебным мякишем к печке. В нем сообщалось, что, за смертью арендатора Пантелеева, дом переходит в ведение жилищного товарищества, для организации какового все жильцы благоволят явиться на собрание, имеющее быть в помещении данной кухни 3 мая сего года в 18 часов. Подписано было — Инициативная группа. Группа эта могла состоять только из одного Могучего. Кроме него и Пантелеевых, в доме проживала еще худенькая полька Мария, презрительная, нищая и всегда надушенная; муж ее где-то за что-то давно и безысходно сидел. Но Мария перед праздниками уехала на побывку в провинцию. Санкцию района Могучий, конечно, не успел получить: учреждения третий день были закрыты.
Капитолина сорвала объявление, ринулась в комнату к Могучему. Куплетист сидел перед зеркальцем и брился безопасной бритвой. Мстительно сверкая пенсне, Капитолина порвала бумажку на мелкие кусочки, развеяла клочки по комнате, натопала и накричала. Могучий пытался вставлять свои «извиняюсь» и «позвольте», но был смят беспощадным напором. Через полчаса он удалился из дому, возбужденно помахивая тросточкой.