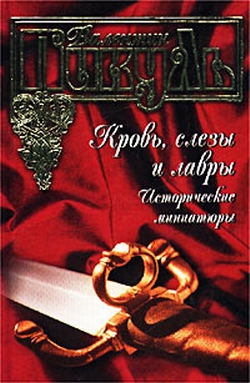Первая всероссийская
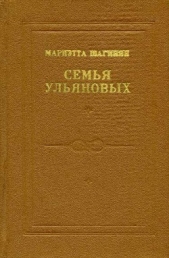
Первая всероссийская читать книгу онлайн
Тетралогия «Семья Ульяновых» удостоена Ленинской премии 1972 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, где еще быть нашему милому инспектору! Смотрите, вы тут на неделю утонете, — раздался над Ульяновым знакомый голос Покровского. Он стоял, набивши карманы газетами, с пакетиком в розовой ленточке в руках и с бутоньеркой в петлице форменного сюртука, большой, веселый, раскрасневшийся от обеда у Гошедуа, и с улыбкой поглядывал на Илью Николаевича, целиком ушедшего в созерцание.
— Утону, — добродушно ответил Ульянов, — утону, господин Покровский, пока не освою каждый пг'едмет! Не хуже, г'ешительно, не хуже, чем у шведов! Что кажется мне особо важным, это призыв к нашей пг'едпг'иимчивости: почти все секг'еты раскрыты, — как делать, — из чего делать самим. Возьмите наглядные пособия для пег'вого класса, кубики, складные буквы, счеты, игры в азбуку, в правила арифметики, — можно их заказать у себя дома, вырезать, раскрасить. Взгляните на эту витрину… — Он повел протестующего Покровского, видимо, уже очень усталого от Выставки, к отдаленному стенду: — Взгляните! Элементы эстетического воспитания, лепка, вырезывание, модная у наших барынь гальванопластика…
— А читали объявление?
Покровский достал из кармана газету и громко прочел:
— «С десятого июля при учебном отделе Выставки по понедельникам, средам и пятницам в три часа дня уроки гимнастики для мальчиков от семи до двенадцати лет, под руководством Я. П. Пуаре… — Он запнулся и неловко закончил: — Три рубля в месяц». Как раз сейчас, недалеко идти, за Фребелевскими садами.
— Посмотреть необходимо, — отозвался Илья Николаевич, усердно исписывая свою книжку, — зараз и Фребеля навестим. Тут — вы правы, конечно, одним разом не справишься.
Но он еще долго не мог оторваться от витрин, наглядных пособий, чинил карандаш, выпросив у кого-то ножик, опять записывал. Почти насильно взяв его под руку, двинулся Покровский к выходу и, пока спускались они, слушал восторженные описанья Ильи Николаевича.
Все это время, на открытии курсов, на перемене между лекциями, вверху на хорах, даже в короткой беседе инспектора с двумя недовольными парнями — Федор Иванович Чевкин был неподалеку, невидимый и не замечаемый Ульяновым. Что-то притягивало его к этому небольшому, быстрому человеку с его милым картавым говорком, с его лысинкой и добрыми-предобрыми карими глазами. Выходило это непроизвольно: не то чтобы он следовал за ним или не упускал его из виду. Но как-то так двигался в его русле, словно связанный с ним невидимой нитью. Все, что говорил Илья Николаевич, было ему особо близко и понятно; манера, с какой относился он к людям, казалась ему особо человечной и тоже понятной, словно это был родной, давно знаемый друг. Когда Покровский с Ульяновым прошли мимо него, он опять, повинуясь какой-то инерции, повернулся и зашагал за ними, держа в руках свою шляпу. И очнулся только тогда, когда вдруг услышал с невероятной отчетливостью, словно забили в тишине стенные часы, тонкий звук голоса, не выходившего у него весь этот месяц из памяти.
Федор Иванович дрогнул и подался назад. Но было уже поздно. Он стоял в павильоне, куда не решался больше заглядывать. Все в этом павильоне осталось неизменно. Только народу стояло больше, и впереди рослый Покровский поддерживал левой рукой за локоть маленького инспектора с его лысинкой, покрытой бисеринками пота. Перед ними, слегка откинув назад корпус, стояла все та же худенькая петербуржанка с малокровным, почти прозрачным лицом. И она опять говорила. Она говорила… Словно что-то пронзило бедного Федора Ивановича. Месяц прошел, и не было дня в этом месяце, когда он не думал о ней, а дни были такие разные и несхожие, и столько пережито в эти дни, — а девушка говорила точь-в-точь теми же словами, с тою же интонацией, как месяц назад.
— Наш учитель, Фребель, исходит из оригинальной мысли…
Вот сейчас, думал Чевкин, она скажет об учете русских педагогических теорий… Он наизусть помнил тогдашнюю ее речь. И девушка, словно заведенная, продолжала слово в слово:
— Мысль эту, конечно, мы переделали по-своему, с учетом русских педагогических теорий…
Ну сверни, сверни в сторону, мысленно молил Федор Иванович, чувствуя, как кровь заливает ему щеки, — стыд за нее, за свою иллюзию, за свои глупые мысли о ней весь этот месяц. А она, не подозревая о страданьях стоявшего где-то у стенки человека, продолжала с отчетливостью щелканья машинки, — о развитии ребенка, каким его представляют родители, о том, что вспоминают о его руках, только когда надо держать пишущую ручку или учиться роялю, — ну хоть бы переставила два слова, хоть бы пропустила «орудия познанья»… Вот сейчас должно быть про щеночка…
— Но рука — это ведь что зубы у щеночка, — мягко произнесла девушка и вдруг, опять, как тогда, точь-в-точь, как тогда, словно заведенная машинка, — улыбнулась, и возле рта ее возникла, совсем как месяц назад премилая ямочка.
Федор Иванович круто повернулся и зашагал из фребелевского павильона. Он чувствовал себя оплеванным оскорбленным и, к удивленью прохожих, бормотал вслух:
— Ну, пусть слова, — она их затвердила, твердит ежедневно, почти машинально, нельзя же творить сто дней подряд, — пусть слова! Но эта наигранная, отрепетированная улыбка и с ямочкой, значит, сама ее знает за собой и делает эту улыбку искусственно, по программе… — Он не посмотрел ей в глаза, как прошлый раз. Но не потому ли и окунулись тогда в эти бездонные серые глаза его собственные, ищущие и верящие, что не было в них противодействия, а только пустота?
Между тем на Илью Николаевича и Покровского, слышавших петербургскую фребеличку первый раз, речь ее произвела освежающее впечатленье.
— Как непосредственно, не по шаблону, — шепнул Покровский.
— И какая верная мысль, что у ребятишек руки чешутся, совсем как у щенят зубы чешутся, — сказал с удовольствием Илья Николаевич.
Он внимательно пересмотрел фребелевские кружочки, кубики, всевозможные деревянные колечки и составные пирамидки, сердечно поблагодарил девушку и вышел вслед за Покровским. До назначенных господином Пуаре уроков гимнастики оставалось несколько минут, но уже в Ульянове произошла перемена. В сущности, эти платные уроки, — для детей зажиточных семей, что слышал еще в Казани от учеников Лобачевского, что прочитал в его гениальной речи… Да притом это снова повторится через… через… Он остановился и посмотрел на Покровского:
— Нуте, нуте, прочтите еще раз это объявленье!
Покровский удивленно начал читать, а потом замолк, сконфуженный. Ульянов хохотал, как умел только он один, почти согнувшись под прямым углом:
— Да ведь с десятого, с десятого, с понедельника? А нынче только четверг, шестое, — сквозь смех промолвил он и добавил, уже перестав смеяться: — А если так, давайте просто гулять, погуляем по Выставке, как прочие добрые люди.
— Вот что значит хорошо пообедать, — в изумлении на самого себя и свою рассеянность пробормотал Покровский. — Десятого! И ведь сам прочел. Нет, Илья Николаевич, извините великодушно, я лучше спать пойду, довольно с меня на сегодняшний день.
Они простились, и Ульянов пошел дальше уже совсем один. Он так редко бывал один, что чувство одиночества обняло его, как отдых. Не переставая улыбаться про себя, он шел по кремлевским садам, охватывая всю Выставку вокруг — в ее пестроте, слаженности, слитных звуках и красках, — и ему показалось, что и Выставка отдыхает вместе с ним. Перешло далеко за полдень, небо обкладывалось какими-то плотными, сизыми тучами, запах цветов перестал ощущаться, словно пригнутый к земле, и птицы, — их было тут множество, — перепархивали на деревьях с непонятной беспорядочной торопливостью. Привыкший в своих поездках читать все эти сигналы, как раскрытую книгу природы, Илья Николаевич подумал: быть дождю, но не скоро, должно быть, к ночи.
Он зашел, не торопясь, в лесной павильон, — и постоял перед картиной вяза, посаженного Петром Великим. Своими руками посадил Петр дерево, — и выросло оно, стоит свыше столетия и свидетельствует о нем. Своими руками сделал возок, в котором можно было разъезжать, — и даже этот возок со множеством других вещей, созданных им самолично, доставили на Выставку. Воистину, руки чешутся, — какие умные, хоть и царские руки были у этого гиганта с кошачьими усами, с круглыми, пронзительными глазами, похожими чем-то на глаза Гёте, как его сейчас изображают. Что было бы с Россией, если б не было Петра? Могло ли вообще не быть его? Ульянов представил себе Русь Алексея Михайловича, подумал о прерванном развитии Киева, о нашествии татарских орд, о быстрых, способных половцах, — совсем в другую сторону могла бы пойти история. Славянофилы ненавидят Петра. Им кажется, Русь допетрова была подлинной… И даже «Отечественные записки», милые его сердцу «Отечественные записки» нет-нет и отдают чем-то похожим на приверженность к воображаемой, идеальной Руси, к этой «искони народной общине». Посмотрели бы у нас на общину!