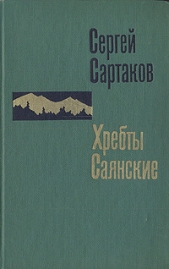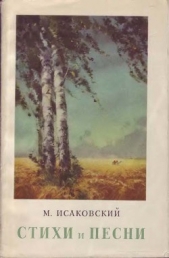Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот

Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот читать книгу онлайн
Повести, вошедшие в настоящую книгу, связаны между собой: в них действуют одни и те же герои.
В «Горном ветре» молодой матрос-речник Костя Барбин, только еще вступает на самостоятельный жизненный путь. Горячий и честный, он подпадает под влияние ловкача Ильи Шахворостова и совершает серьезные ошибки. Его поправляют товарищи по работе. Рядом с Костей и подруга его детства Маша Терскова.
В повести «Не отдавай королеву» Костя Барбин, уже кессонщик, предстает человеком твердой воли. Маша Терскова теперь его жена. «Не отдавай королеву, борись до конца за человека» — таков жизненный принцип Маши и Кости.
В заключительной повести «Медленный гавот» Костя Барбин становится студентом заочником строительного института, и в борьбу с бесчестными людьми вступает, уже опираясь на силу печатного слова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да кто его знает! Диссертацию, что ли, о растительности тундры он готовит. Моряк, а ботаник. Он весь свой отпуск на это дело и хочет загнать, натуру исследовать. Знал ведь, что останется, а записался. И Терскову сбил…
Тумарк долго еще жаловался и на Леонида, и на Васю Тетерева, и на девчат. Корил их, что не любят они искусство. Говорил, что искусство существует не для галочки в отчете и не для заметки в нашей речной многотиражке, а для воспитания высоких, благородных чувств у людей и нельзя искусством так помыкать, как это делает Вася Тетерев. Грозился, что потребует перевыборов секретаря нашей комсомольской организации, потому что Вася — вообще одно недоразумение. И после этого длинно стал объяснять про систему Станиславского, что-то такое о Немировиче-Данченко, о Качалове и Топоркове рассказывать и разгорелся так, что хоть на трибуну его как лектора выпускай. Но я не слушал Тумарка, я все думал: Леонид остался в Дудинке, а Маша ходит грустная…
Все же сон сморил меня, и когда пришел мой черед снова заступать на вахту, оказалось, что мы проплыли уже и Туруханск. Стояли там тоже недолго, только чтобы взять пассажиров, да еще инспектора БУПа, вместе с лодкой завезти его до Подкаменной Тунгуски. БУП по буквам — бассейновое управление пути. Это их забота за бакенами, створами, вехами и всякой прочей речной «обстановкой» следить. А лодочка у этого инспектора была превосходная. Легкая, должно быть, очень ходкая и в красный цвет окрашенная, чтобы с рыбаками, боже упаси, издали кто-нибудь инспектора не спутал. Затащили эту лодочку к нам на корму, и теперь пассажиры все время сверху любовались ею. А вообще-то, конечно, интереснее было бы глядеть вперед, к югу: голубая дорога реки теперь лезла все круче и круче в гору, и сильнее шумела и пенилась вода, опрокидываясь на нос теплохода. О «буповской» же лодочке я сейчас упомянул потому только, что она дальше сыграет свою роль.
В эту вахту мне случилось несколько раз проходить мимо радиорубки. Маша все время работала, стучала ключом или сидела с наушниками и записывала радиограммы с берега. Ветерок трепал синюю репсовую занавеску, солнце светило прямо в окно, и никелированные детали на аппарате так и горели золотым огнем. Я бы сказал, как зуб Леонида, но его, слава богу, и духу теперь там не было. А подойти к окошку я все же не мог, хотя какая-то сила меня к нему тянула, примерно такое чувство: «Вот видишь, Маша, он пощипал свои усики, похохотал — и будь здорова! На кого ты променяла старого друга?» Тогда я взял и остановился у перил, спиной к окну так, как было в Дудинке, когда Маша спала, положив голову на руки. Зачем я это сделал — не знаю. Может быть даже и такая была у меня неясная и тайная мысль: торчать перед глазами Маши немым укором.
Но постоял я недолго. Кто-то толкнул меня в бок. Повернул голову — Петя Фигурнов.
— Эй, Константин! Что тебе Шахворостов насчет Александры наболтал? А? Эх, ты! Нашел кому поверить! Для ясности.
— Если для ясности, то какое тебе до этого дело?
— А вот такое. Девчонка ревет. От обиды, от горя и… не знаю еще от чего. А ты Печорин! И со мной ты так не разговаривай. Не люблю. Уже говорил я. Для ясности.
Откуда он этого Печорина выкопал? Будто подслушал, когда говорил я с Иваном Андреичем! Если бы не это, может, так бы меня и не взорвало. А тут рубанул я:
— Ну, значит, опять мы с тобой, матрос Фигурнов, поссорились?
— Ты этого хочешь? Пожалуйста!
Он зафыркал и убежал. А я вдруг сообразил, что от перил до окошка радиорубки всего два шага и Маша, конечно, слышала весь громкий наш разговор. И мне от этого стало неприятно. Больше даже чем оттого, что я с Фигурновым снова поссорился, и оттого, что Шура, обиженная, плачет.
Нужно было и мне уйти. Но я не успел этого сделать. С лестницы, которая ведет на капитанский мостик, Владимир Петрович мне крикнул:
— Эй, Барбин, спроси-ка там у Терсковой, нет ли радио с берега?
Тут уж никак не откажешься. Повернулся я к окну, спрашиваю и не могу понять, слышала или нет Маша мой разговор с Фигурновым — очень уж спокойно перебрала она на столе у себя три-четыре листочка бумаги. Подала один.
— Наверно, из Нижне-Имбатского просит? Вот. На пристани нет пассажиров.
И глаза у Маши, как прежде, теплые, ласковые.
Иду с радиограммой к Владимиру Петровичу, а на затылке Машин взгляд чувствую.
Прочитал Владимир Петрович, прищелкнул пальцами: «Превосходно!» — поманил меня за собой в рубку, написал от себя радиограмму в Красноярск, в пассажирскую службу, и послал опять:
— Пусть передаст Терскова.
Об этом я рассказываю только для того, чтобы вы знали: вернулся я к Маше по необходимости. Ну, разговор: «Куда, какая радиограмма?» — я пропускаю. А после всех служебных слов Маша и говорит:
— Костя, у тебя после вахты время свободное? — и голос у нее ровный и с серебринкой, точь-в-точь такой, как был и раньше.
— Вообще-то свободное…
Могли бы вы другое ответить? А Маша смахнула засохшие полярные березки, которые еще лежали у нее на столе и портили весь вид радиорубки, сказала:
— Так приходи! Поговорим.
И это у нее вышло совсем просто. А мне было нужно силой сгонять в узел брови, чтобы спросить:
— О чем?
— Ну вот! «О чем?» Да о чем придется — как всегда.
— У меня-то, Маша, всегда как всегда. А у тебя…
Я думал, она сразу заспорит, начнет оправдываться, но Маша только чуточку улыбнулась, как улыбаются, когда все понимают и улыбкой своей хотят человека не раздразнить, а успокоить.
— Тогда все очень хорошо, Костя!
И у меня не набралось смелости вклинить: «Конечно, когда нет Леонида, тогда и Константин хорош».
Вы представляете, что вот ведь произошло же что-то такое, отчего Маша для меня стала иной. А какой — не определить. Но не простой.
С такой вот связанностью в душе я и ходил рядом с ней по палубе, когда освободился от вахты. Мы разговаривали, а слова шли очень туго, во всяком случае у меня, потому что мне все время лезли в голову засохшие полярные березки, которые Маша так спокойно смахнула в корзину. Зачем она это сделала? Для меня, или ей самой вовсе не дороги были эти березки? И не знаю как, но у меня все же вывернулось это имя — Леонид.
Маша остановилась. Посмотрела на меня. И мне легко было смотреть ей в глаза. Это было все равно что смотреть в ангарскую воду: хоть на какой глубине видишь каждый камешек. Я уж вам рассказывал, что у Маши никогда не гаснет улыбка, только, где она прячется, не сразу поймешь: в уголках губ, или в ресницах, или в тонких лучиках морщинок, которые вдруг побегут под глазами. И вот я гляжу, как свет пробегает у Маши в глазах, как все больше они наполняются веселым блеском и становятся такими глубокими, что даже делается немного страшно — увидишь в них сейчас ее живое сердце, — и меня обжигает стыд: почему я все эти дни бежал от Маши, почему раньше вот так не посмотрел ей в глаза?
А Маша словно и не заметила этого. Переспросила:
— Леонид? А знаешь, Костя, мне кажется, из него выйдет крупный ученый. Он весь в своей ботанике и в Заполярье. Он выведал от меня все-все, что только я знала о нашем Севере. А сколько он сам рассказал мне всяких замечательных вещей! Не понимаю, почему ты с ним не подружился? Он всегда так хорошо говорил о тебе, ты ему очень понравился.
Стыд одолел меня еще больше. И чтобы не раскрыть себя, я напустил суровости в голос. Сказал с издевкой:
— Знаю. Он и перед капитаном за меня заступался. Только кому это нужно? Будто Костя Барбин без защитников и жить не может!
Маша покачала головой.
— Он заступался от чистого сердца, Костя, потому что о всех твоих плохих поступках капитану рассказывала я. И Леонид боялся, что Иван Демьяныч решит очень круто.
— Ага, — сказал я, — так, значит, это ты говорила Ивану Демьянычу?
— Костя, да неужели тебе больше нравится всякая ложь? Ну хорошо, тогда ударь меня еще раз за это. Ты уже это делал…
Я думал: прячу свой стыд от нее. Разве спрячешь? Но спросить прямо: «Маша, ты это не можешь забыть?» — у меня не хватило голосу.