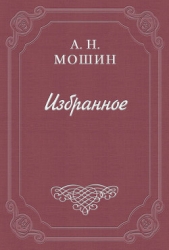Вишневый омут. Хлеб - имя существительное

Вишневый омут. Хлеб - имя существительное читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева вошли роман "Вишневый омут" и повесть "Хлеб - имя существительное". Это - своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870-1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период... Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы - Фрося-вишенка из "Вишневого омута" и Журавушка из повести "Хлеб- имя существительное". Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей.
Содержание:
Вишневый омут
Хлеб - имя существительное
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А тебе не всё равно — как? Помоги, говорю! Гибну же!..
— А можа, ты кум, того… смеёшься надо мной, а? — спросил недоверчивый Карпушка.
И лишь после того, как кум хлебнул очередную и притом черезмерно великую порцию воды и снова стал погружаться на дно, на этот раз с явным намерением остаться там навсегда, только после этого Карпушка торопливо сбросил с себя штаны и бухнулся в воду.
Илья Спиридонович был вытащен наконец на сушу.
Они долго сидели в саду Рыжовых, дружно кляня нынешнюю молодёжь и на все лады расхваливая старину, когда, если верить их словам, люди купались в масле, а парни по кротости своей могли соперничать с ангелами. О кулачных баталиях, при которых им обоим не однажды «щупали» рёбра, что-то не вспоминали…
Как бы там, однако, ни было, а верно говорится в пословице: «Нет худа без добра». Вспомнив про эту самую пословицу, Илья Спиридонович предложил Карпушке дружбу, и тот охотно принял её. Расчувствовавшись, Илья Спиридонович сходил к себе в шалаш, где у него была схоронена ещё одна бутылка водки. Вдвоём они её быстренько «усидели». С той поры и в самом деле очень сблизились, навсегда, казалось, забыв о прежних своих неладах.
Что же касается Митьки Кручинина, то он в ту же ночь в условленное время привёл свою дружину в харламовский сад.
Михаил Аверьянович уже засыпал в шалаше, когда послышался треск плетней, шум встряхиваемых деревьев и дробный, гулкий стук падающих на землю яблок.
Захватив большую дубовую палку с толстым, круглым, величиною с человечью голову набалдашником — единственное оружие, которым он располагал, — Михаил Аверьянович вышел из шалаша. Он сейчас же понял, что в саду орудуют далеко не дети, а потому и заговорил громко и вполне серьёзно, тоном весьма решительным и достаточно убедительным:
— Не балуйте, хлопцы. Стыдно небось. Худо будет… Я-то уж пожил на свете и смерти не боюсь, но ведь и вам не поздоровится. Хоть двоих, а всё-таки убью. Слышите?!
Хлопцы, конечно, услышали. А так как они хорошо знали, что Михаил Аверьянович не бросает слов на ветер, то призадумались, затихли, затаились. Очевидно, никто не пожелал оказаться в числе тех двоих, которых старик обещал отправить не дальше и не ближе как на тот свет, потому и сочли за лучшее поскорее убраться из его сада.
— Бежим, ребята! — скомандовал Митька. — Прибьёт чёртов хохол!
С деревьев дружно посыпались, но теперь уже не яблоки, а парни.
Через минуту всё стихло. Птицы, разбуженные этим ночным нашествием, одна за другой вернулись в свои гнёзда и дупла. Некоторое время они ещё перешёптывались, чулюкали, возились, потом успокоились вовсе, и вокруг всё смолкло. Лишь там, в темноте, чудилось сонное дыхание Вишнёвого омута.
Михаил Аверьянович не мог заснуть в ту ночь. Он лежал на своей постели вверх лицом, подложив руки под голову, и неподвижными, широко распахнутыми глазами смотрел через прохудившуюся крышу на далёкие звёзды, усеявшие чёрный свод неба, и беспокойно думал о людях, о том, какие же они всё-таки глупые, хотя и считаются разумнейшими существами на земле:
«Ворвались, как дикари, в сад. Поломали сучья, посшибали яблоки, которые в темноте-то и собрать не смогли бы. Калечат, кромсают живое тело земли, вечную красу его… Да пришли бы вы ко мне да попросили — накормил бы досыта, и с собой берите сколько угодно. Но не калечьте сад, ведь вы же люди, а не звери! Земля ведь теперь вся ваша, вы хозяева земли. Так почему же не бережёте её, почему не учат вас любить родную природу! Не научившись любить её, вы не научитесь и по-настоящему любить родину свою, а человек без родины — не человек, а так, тля, букашка…»
На следующий день обо всём, что мучило его ночью, рассказал старшему внуку Ивану, не так давно вернувшемуся в Савкин Затон и организовавшему вместе с Митькой Кручининым комсомольскую ячейку. Слова старика взволновали Ивана, и он попросил деда:
— Завтра у нас комсомольское собрание. Приходи и скажи всё это нашим ребятам. А, дедушка?
Михаил Аверьянович усмехнулся:
— У вас с Павлом каждый день собрания. Об чём же будете балакать? Опять о попах. Религия-дурман и прочее… Так, что ли?
— У нас лекция «Религия — опиум и дурман для народа». Ты что, читал наше объявление у нардома?
— Да нет. Догадываюсь. Об чём же вам ещё балакать? По-вашему, выходит, что в церковь идут одни верующие. Ведь так?
— Ну, так. А что?
— Стало быть, и ты, и твой отец, и твой дядя Павел, и Карпушка — все вы верите в бога? А?
— Нет, не верим.
— А зачем же в церковь ходите?
— По привычке.
— Брешешь, Ванюшка, не потому. Я, признаться, и сам не шибко верю в бога, а пойду, к примеру, ко всенощной и простою на ногах с вечера и до самого аж утра. А в нардоме и одного часу не вытерплю. В церкви не замечу, как и ночь пролетит, — во как интересно! Идёшь домой, будто тебя в Игрице выкупали, и легко и светло на душе-то, хоть умом-то и соображаю: всё это выдумка поповская, никакого Христа на самом деле нету. Вот оно и опиум! Там и огни паникадил, и картины разные, нарисованные, наверное, самыми лучшими рисовальщиками. А хор? Поют-то в нём знакомые все люди, наши же затонские мужики да девчата. А как поют!.. На глаза слёзы навёртываются, а за спиной вроде бы крылья вырастают. А коли рявкнут Яжонковы, батька с сыном, «Волною морскою», мурашки по спине побегут, а внутрях что-то так и дрогнет и оборвётся…
Старик, задохнувшись от волнения, умолк, обождал маленько и продолжал необычно горячо:
— Я бы и рад пойти не в церковь, а в нардом, да ведь это же сарай. У вас там накурено — не продохнёшь. И слу1пай в этом-то чаду, как твой дружок Митька частушки горланит. Может, и разумные речи там говорят, в нардоме, а нет охоты идтить туда. Пусть бы он был, ну, ежели не храмом, нардом тот, а похожим на него. И не в иконах, не в паникадилах тут дело, Ванюшка! А чтобы было в том нардоме всегда светло, чисто, чтобы, подходя к нему, самому захотелось снять шапку. А ведь у вас там и шапок-то не сымают. Зачем же я, старик, туда пойду? А в церковь не войдёшь в шапке, сдерёшь её с головы ещё в ограде. И на пол не плюнешь, как в нардоме, а ежели и плюнешь, сват Иван Мороз такую затрещину залепит, что век помнить будешь…
— Закроем мы эти церкви, чтоб вы, старики, не очень-то заглядывались на них, — мрачно сказал Иван.
— Закрыть всё можно. Это нетрудно. А вот что вы придумаете взамен? — Михаил Аверьянович поглядел на внука сузившимися глазами. — Подумай-ка ты об этом со своими дружками, а потом уж и агитируй против религии… Ну, а что касаемо сада, то это уж, Ванюшка, потом… Вижу, не до садов вам сейчас. Придёт время — сами спохватитесь. Дуб растёт сотни лет, а спилить его можно за десять минут, придумаете же какую технику — и за один миг спилите. Дело не очень-то хитрое. Только скушно будет вам жить на голой-то земле. Социализм, о котором вы так много балакаете с твоим дядей Павлом, без сада не дюже красен. Так я думаю…
Мишке нравилось наблюдать за дедом, когда он плетёт лапти. Плёл он их в одну, в две и в три лычки. При этом единственном его инструментом была плоская, загнутая железяка — таким вот бывает собачий язык, высунутый в знойную погоду. Штука эта называлась весьма странно: кочедык. Она доставляла Мишке немало неприятностей, потому что дед любил донимать внука:
— Скажи, хлопчику: «Вывернулась лычка из-под кочедычка».
У Мишки же получалось; «Вывернулась лычка из кадычка».
Михаил Аверьянович радовался, как ребёнок, и предлагал повторять за ним скороговорку про того самого грека, который ехал через реку.
Мишка повторял, и, как ни следил за языком своим, у него всё-таки выходило:
Старик хохотал от души и предлагал новое присловье: