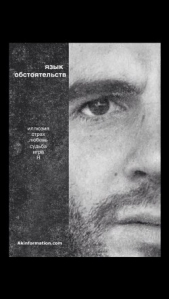Серая мышь

Серая мышь читать книгу онлайн
Роман известного русского писателя, проживающего на Украине, повествует о судьбе сельского учителя, ставшего членом УПА в годы Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У тебя, Улас, и своих дел будет невпроворот. В том же селе Оса. Стах прошелся по нему огнем и мечем, а ты должен прийти туда со своим умным и добрым словом. Дадим тебе на помощь людей, много не могу, сам знаешь, что большая часть ушла на Ковпака, отряд у нас вместе со штабом небольшой, так вот, надо будет пополнить его добровольцами.— Вапнярский налил теперь уже полную рюмку, выпил, опять отщипнул кусочек брынзы. Жуя, говорил: — О том, что скажу, распространяться не следует, но тебе знать нужно: не за горами тот час, когда мы будем отступать, тут мы не удержимся, Красная Армия давит. Мы вынуждены уходить дальше, в Карпаты. Но надо сделать все, чтобы тут у нас остались свои люди, мы скоро вернемся; необходимо собрать человек семьсот-восемьсот хлопцев и девчат; сейчас, пока наш верх,— делать это нетрудно, кое на кого можно нажать и силой, в том же Оса хорошо помнят, как поступают с теми, кто не с нами. Ну, а остальное, как говорится, дело твоего мастерства; твои слова — сила, они все могут. Вышколить молодежь следует так, чтобы она при встрече с коммунистом или москалем, комсомольцем или просто поляком и жидом шарахалась от них, как от чумы, чтобы их ненавидели, ненавидели, ненавидели! — Вапнярский с такой силой сжал рюмку в руках, что она хрустнула, как яичная скорлупа; из разжатой ладони на пол посыпались осколки и упало несколько капель крови.— Вот так, пан Курчак! — Он подошел к ведру с водой, зачерпнул кружкой из ведра, ополоснул руку, оглядел ее и чисто по-детски прижал к ладони губы, пытаясь унять кровь.— Ты обязан это сделать к концу января сорок четвертого года,— продолжал он.— Штаб назначает тебя комендантом молодежного лагеря, не слагая твоих основных обязанностей.
Выйдя от него, я поспешил отыскать своих подопечных. У землянки, где жил Юрко, увидел толпу смеющихся хлопцев. Оказалось, причиной смеха был Юрко. После казни Славка, с которым Дзяйло был в дружбе, Юрко выпил почти полведра самогона и тут же свалился. Хлопцы выкачали из него самогон и затащили в землянку, чтобы он не замерз. Я несколько успокоился: Юрко отойдет только к вечеру,— и пошел к себе. Мой напарник по землянке со смешком сообщил мне:
— Твоих друзей-восточников и немца повели до буерака, стрелять будут.
Я бросился туда и еще успел увидеть их живыми, но что с того толку! Их было около десятка, уцелевших после боя с немцами, выживших в плену; ради того, чтобы жить, они честно служили нам. Когда я подошел, люди Стаха уже вскинули винтовки. Я поймал, как всегда, тоскливый взгляд Дениса Мефодиевича; в его глазах взблеснула на миг какая-то надежда, но залп им же обученных стрелять молодых хлопцев погасил и эту надежду, и жизнь Дениса Мефодиевича Лопаты, учителя из Ахтырки. Никогда не узнают ни его мать, ни жена, ни сын, где и как он погиб — и как хотел выжить и увидеть их. Может быть, я и не заметил бы Виктора Чепиля, но во время залпа он вдруг присел и затем метнулся с несвойственной человеку прытью за спины уже падающих от залпа людей, побежал по крутой горке буерака к кустам, к леску; из-под ног его летели сухие листья и вырванные каблуками травинки. Вслед ему беспорядочно стреляли и чья-то пуля достала, он упал. Первым около него оказался быстрый и прыткий Петро Стах, выстрелил в упор, но этот выстрел словно придал Чепилю силы, он резко поднялся и снова бросился бежать, потом падал опять, в него стреляли, а он извивался, крутился вьюном, поскуливал от безнадежности и отчаяния, от жажды к жизни, и вдруг как-то сразу умолк и застыл, лежа на боку в позе устремленного вперед бегуна: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...»
Лагерь было решено расположить в нашем селе. Когда Вапнярский предложил это, у меня сердце опахнуло теплом — наконец-то я буду с Галей и сыном. Но тут же всего пронзило тревогой: а что же дальше, что будет со мной и с Галей, когда придут Советы? Думать об этом пока не хотелось, так уж устроен человек,— живет сегодняшним днем. Напутствуя меня, Богдан Вапнярский, с которым мы в тот день, сами того не ведая, виделись в последний раз перед долгой разлукой, сказал:
— Вчера, друже Улас, прошло, завтра может не наступить, так что живи сегодня.
А я хотел жить и сегодня, и завтра, потому что у меня были Тарас и Галя, и я был им нужен и сегодня и всегда так же, как и они мне. Богдан Вапнярский говорил эти слова, скорее всего, самому себе и своей очередной сожительнице, что сидела с ним рядом за столом; она была в дорогой парчовой спиднице, красных сапожках и вышитой украинским орнаментом тонкополотняной кофточке,— в таких и по сей, день танцуют на сцене украинские народные танцы; на плечи наброшена дорогая котиковая шубка, явно не с ее плеча, реквизированная у кого-то из богатых городских. И пахло от той леди с давно немытыми свалявшимися волосами резкой парфюмерией и самогонкой. Она посмотрела на меня ласковой пьяненькой улыбкой, налила из бутылки целый стакан и милостиво протянула мне. Вапнярский рассмеялся.
— Он непьющий.
— Правда? Впервые встречаю такого мужчину. Вы и к женщинам не благоволите?
— Он однолюб, у него есть жена,— ответил за меня Вапнярский.
— По-моему, это скучно,— усмехнулась она и, посерьезнев, протянула ко мне свой стакан.— И все же вам, как другу Богдана и, по его словам, настоящему борцу за национальное возрождение, придется выпить. Я предлагаю тост за самостийную и неделимую Украину, за близкую и окончательную победу ее народа!
Последние слова она почти прокричала, и я почему-то побоялся, что с ней случится пьяная истерика, это испортило бы наше расставание с Вапнярским-Бошиком, к которому, несмотря ни на что, я крепко привязался. Мы сдвинули с ней стаканы, и я выпил под радостный смех моего старого друга и наставника.
— Ну и могучая же ты у меня женщина, если смогла заставить выпить такого убежденного трезвенника, как Улас Курчак,— смеясь, говорил он.
Самогонка была крепкая, и мне, непьющему, она тут же шибанула в голову. В таких случаях я становлюсь разговорчивым и пытаюсь сказать то, что не решился бы говорить в трезвом виде.
— Вот мы все говорим о возрождении нации, о свободе нашего народа, а сами убиваем... Народ ведь состоит из людей, каждый со своей кровью и плотью... Скольких мы уже отправили на тот свет! Только за последнее время. И все это украинцы, наши братья...
— Ты имеешь в виду восточников? — резко перебил меня Вапнярский.— Они идейно и духовно отличаются от нас точно так же, как — от человекообразной обезьяны. Они все пропитаны духом большевизма, он у них в крови, поэтому их кровь нам, настоящим украинцам, проливать не есть грех.
— А шестьдесят семей в Оса? Всех — от мала до велика. А в соседних районах, а на Тернопольщине!?
Пока это говорил, Вапнярский отхлебывал и отхлебывал из своего стакана, уже не закусывая; это было признаком того, что он пьянел. Наконец, когда из меня вышел весь мой запал и я, как ни была мне противна самогонка, тоже потянулся к стакану, он приблизил ко мне свое лицо, и я видел, что его глаза совершенно трезвы.
— Ты же политический воспитатель, Улас, и должен, как никто, понимать и разъяснять другим: все, что мы делаем, есть борьба, и борьба жестокая, а она не может быть без крови.
— Лес рубят — щепки летят! — вдруг нервно вся передернулась от возбуждения Богданова сожительница.
Вапнярский не обратил на нее внимания и, слегка закинув голову, со своей обычной велеречивостью произнес слова, которые запомнились мне на всю жизнь:
— Мы очистим нашу нацию, прополем от сорняков наше поле. Люди — как трава: чем больше ее косишь, тем она лучше растет.
На следующее утро я приступил к своим новым обязанностям коменданта; для мобилизации молодежи мне дали в помощь пятнадцать стрельцов во главе с роевым. Мобилизация была проведена быстро и без особых страстей — брали, в основном, из семей сочувствующих нам или родичей, служивших в УПА; да и не в Германию же их угоняли, все оставались в своем районе, приходили со своими харчами, и жилось им довольно вольготно — собралось восемьсот человек: пятьсот юношей (целых два куреня, переводя на военный язык) и триста девчат. Девчат я разместил в школьном зале и в классах, а ребят поселил в клубе; каждый притащил из дому постель, и слали все покотом; сами топили печи, сами себе варили и стряпали, а после принятия присяги на верность ОУН и УПА их перевели на военное положение. Теперь царствовала военная дисциплина — за провинность или непослушание предусматривались довольно строгие наказания. Воспитатели и военные инструкторы — их было вместе со мной пять человек — тоже поселились в школе, в комнатах, где жили когда-то учителя. Я составил расписание занятий, предметов было два — политзанятия и военное дело; теория преподавалась в школе и клубе, а из яра, где раньше расстреливали, теперь с утра до вечера доносились одиночные автоматные выстрелы. Очередями не стреляли — экономили патроны, но ходили в тир каждый день. Теперь я был полным хозяином в селе и в округе — польские полицаи при нашем появлении разбежались. С немецкой администрацией нашего дистрикта мы договорились, что сами будем следить за порядком, в ответ немцы потребовали от нас немного: чтобы мы, в случае необходимости, беспрекословно им подчинялись, ничем не препятствовали обеспечению фронта, не взрывали мостов, эшелонов, не убивали немецких функционеров, а при надобности помогали в борьбе против советских партизан. Мы, как и раньше, все это им обещали.