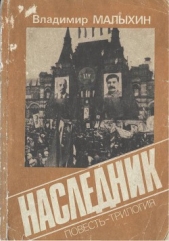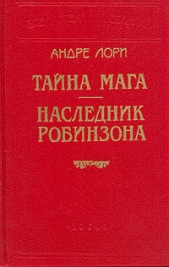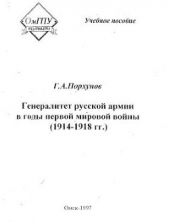Наследник

Наследник читать книгу онлайн
К началу Первой мировой войны Лев Славин успел окончить гимназию, но курс обучения в университете оборвала мобилизация в действующую армию, в которую он был призван в качестве вольноопределяющегося. После окончания боевых действий был демобилизован в чине помощника командира роты по строевой части. В 1918 году вступил в ряды Красной Армии. Именно эти события и были положены в основу романа «Наследник», где главный герой после долгих идейных исканий приходит в лагерь революции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дриженко пришел в прекрасное настроение и на просьбу Стамати отпустить нас в город до одиннадцати часов побаловаться с девчонками заявил:
– А потом за вас отвечай, хвост вам в рот, как старая оглобля! – но тут же вытащил из кармана бланки увольнительных записок, подписанные Третьяковым, и вписал туда наши фамилии. – Смотрите, ребята, – строго сказал, – чтоб не напороться во дворе на ротного. В одиннадцать часов он из офицерского собрания идет домой.
Был вечер, неожиданно теплый, какие бывают иногда в Одессе даже в декабре. Я с наслаждением взрывал сапогами рыхлый снег, коричневый, как шоколадная халва. От долгого воздержания строй штатской жизни ударил мне в голову. Я с аппетитом оглядывал парадные ходы, украшенные медными табличками зубных врачей и ящиками для писем. Мелькали окна с прозрачными занавесками, сквозь которые иногда можно было разглядеть большую кафельную печку или завиток табачного дыма, кувыркающийся в воздухе.
Володя молча семенил рядом, мой милый товарищ, похудевший на царских хлебах, озабоченно облизывающий толстые губы.
Избегая светлых улиц, мы вошли в Инвалидный переулок. Началась немецкая часть города, кирка, училище св. Павла, готические стрельчатые крыши, напротив из консерватории пробивались звуки фортепьяно. Хлопали старые двери гимнастического общества «Турн-Феррейн».
Захлебываясь, я стал рассказывать Володе сплетни про старого гимнаста герр Лидиге с мускулатурой микеланджеловского Моисея и слезящимися от старости глазками, который вот уже десять лет два раза в неделю пытается сделать «солнце» на турнике – и у него ничего не выходит, про фрейлейн Крафт, преподавательницу гимнастики, с уродливым лицом и удивительным телом, о которой говорили, что у нее в любовниках какой-то революционер. Я стал высказывать разные предположения о личности этого революционера, чтоб сообщить моей болтовне подобие значительности.
Я возбуждался все больше и больше от зрелища мирной жизни, от афиш на столбах, от извозчиков, на которых катили господа в котелках, придерживая за талию дам, от собак, деловито бежавших в разных направлениях и по совершенно, видимо, частным делам.
Мы углубились в Гулевую улицу, которая теперь называлась улицей Карангозова, но которую все продолжали называть Гулевой, – монархисты из презрения к новшествам, либералы из ненависти к генералу Карангозову. Кругом стояли магазины музыкальных мастеров, все чехи – Драгош, Лукаш, Седлачек. В окнах рядом с балалайками и мандолинами стояли фикусы, кактусы и клетки с попугаями.
Мы прошли по Соборной площади, но не через центр, залитый светом, а по темной боковой аллее, меж мароньеров и акаций. На матовых стеклах кафе Либмана мелькали силуэты бильярдистов. Аптека Гаевского и Поповского сияла лиловыми и рубиновыми вазами. Справа начинались торцы Дерибасовской улицы. Городовой в белых перчатках воздымал дубинку. Катились трамваи, широкие южные трамваи с желтыми соломенными сиденьями. По Дерибасовской шли люди с книжками от Распопова, пирожными от Печесского, колбасой от Дубинина, рахат-лукумом от Дуваржоглу. Город дышал пивом Санценбахера, консервами Фальцфейна, богатством Ашкинази, гордостью Сцибор-Мархоцкого. Сколько раз я принимал участие в прогулках по Дерибасовской, почти ритуальных в своей неизменяемости, раскланиваясь со знакомыми, завидуя серой форме учеников 1-й гимназии! А дальше тянулись заманчивые пространства Ришельевской улицы, которая начинается так гордо «Лионским кредитом» и платанами, морем и каллиграфом Косодо, но вскоре запутывается, входит в сожительство с грязными Большой и Малой Арнаутскими и бесславно гибнет среди дешевых притонов и мусорных ящиков на перекрестках, меж фотографом «Гений Шапиро» и парикмахером «Жорж Крутопейсах». Пусть моя жизнь не будет похожа на Ришельевскую улицу!
Возбуждаясь, я говорил все больше и больше. Я попытался объяснить Володе совершенную отчужденность Польской, Земской и Гимназической улиц, на жителей которых дедушка Абрамсон – э, да что там, и я сам! – взирал, как если бы они жили в Новой Каледонии. (Напротив, я ощущал как родную Садовую улицу, где стоял дедушкин дом, и всю прилегающую систему Коблевских, Нежинских, Херсонских, Елизаветинских улиц, с двухэтажными флигелями и уборными в конце двора.) Еще дальше шли совершенно уже непонятные – Слободка-Романовка, Пересыпь, Молдаванка и, наконец, первобытная дикость Ближних и Дальних Мельниц, край мира, обросший травой.
– Какое идиотство! – вскричал Володя. – Перестань работать языком!
Мы вступили на Преображенскую улицу. Фруктовая лавка с толстой хозяйкой, похожей на испанку, пивной погребок «Гамбринус», университет, набитый сторожами, матрикулами, колбами. Сквозь Малый переулок мы достигли улицы Гоголя. Внизу шумело море, гипсовые атланты подпирали балкон, величественный, как земной шар. Здесь жил Мартыновский.
– Здорово, орлы! – крикнул Мартыновский, отворив нам дверь. Он по-прежнему был в форме прапорщика Земского союза.
Мы стали во фронт и ответили, как полному генералу.
– Здра-жла-ваш-сок-дит-сво!
Мартыновский захохотал, придя в восторг. Сейчас же он сделался серьезным и сказал:
– Здесь сам Левин.
Он повел нас через темные комнаты, где тускло отсвечивали паркет и кожа, в кабинет генерала Епифанова. Здесь Мартыновский сделал себе, как он говорил, «мое ателье». В кабинете был зажжен камин. На столе стоял ужин, приготовленный рачительным хозяином. У камина сидели трое: Кипарисов (он с сердечностью обнял нас), Рымша, интернационалист Рымша, весь разлившийся в доброй улыбке, и третий, незнакомый мне, отягощенный широкими плечами, согнувшийся под их бременем, должно быть, Левин. Он мельком глянул на нас, и я увидел, что он сильно косит.
Стамати начал рассказывать о нашей работе в полку, прерываемый поминутно вопросами. Я заметил, что к Левину, который сохранял угрюмую молчаливость, все обращались с большим уважением. Я вспомнил, что он крупный работник, член городского комитета, тогда как Кипарисов – только студенческого. Я стал присматриваться к Левину с тем непреодолимым любопытством, которое я испытываю к новым лицам. У него было грузное, пространное, тонкогубое, необъяснимое лицо. Это лицо держалось на двух скулах, огромных, как автомобильные шины. И если правда, что нужно описывать не лицо, а свое впечатление от лица, то от его лица было впечатление силы, ехидства, ума, развратности, воодушевления. Оно сияло над столом, как страна, полная равнин и неба. И по нему тенями проносились мысли. Величайшая снисходительность шла от каждого его жеста, от смыкания ресниц, от поигрыванья кончиком ноги, небрежно заброшенной на другую ногу. Наконец он заговорил, и мы услышали голос гиганта, намеренно сдавленный, приспособленный для несовершенного слуха окружающих; казалось, заговори он в полную силу, мы все оглохли б.