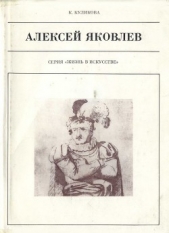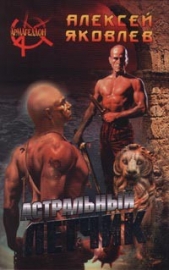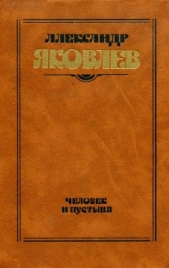Человек и пустыня (Роман. Рассказы)
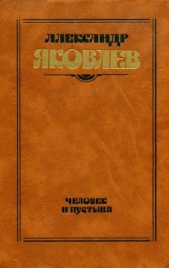
Человек и пустыня (Роман. Рассказы) читать книгу онлайн
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«А еще сообщаю тебе, сынок, — писал Иван Михайлович уже в Москву, — порешили мы строить хутор на самой речке Деркули. Земля там пустующая, и мы с твоим тестем тот хутор назвать хотим Новыми Землями. Похоже, толк будет».
Елизавета Васильевна засмеялась, прочитав письмо.
— Послушай, мы, кажется, скоро будем первыми богачами в Цветогорье.
Виктор улыбнулся, сказал:
— Скорее бы развязаться с Москвой — и туда бы!
А жена вдруг задумалась:
— Ну хорошо. Богаты. А дальше что?
Виктор удивился:
— То есть как дальше?
— Что с этими богатствами делать? Что нам делать с нашей жизнью?
— Вот тебе раз! Это странно!
— Почему странно? Прежде я много думала — зачем я живу? Думала и не могла решить. Ждала. Вот придет ко мне муж, придет любовь — тогда он скажет, и все будет ясно.
— Что же теперь?
— Вот ты смеешься, радуешься богатству, хочешь скорее бросить Москву, ехать туда дело делать. А я не знаю, я боюсь чего-то.
— Чего?
— Как будем жить?
— Да, конечно, цель должна быть ясна. Для меня она ясна. Я хочу строить. И буду строить. Знаешь, когда я был маленький, я вообразил себя Жильяном из «Тружеников моря» — с такой твердой волей, с большой настойчивостью. И годы целые воображал, готовился сражаться с каким-то страшным врагом, хотя и сам хорошенько не знал, с каким. Отец мне говорил: враг — это заволжская пустыня. А я верил и не верил. Приехал сюда. Лихов говорит: «Россия спит. Вы должны разбудить ее. Вы строители. Перед вами самые широкие благородные задачи». И — молнией передо мной: спит Россия, я ее разбужу. Ты меня понимаешь?
— Я не знаю… Я не знаю, как ты можешь разбудить. Строить хутора, пахать землю — разве это разбудить? Вот если бы ты был писатель, как Пушкин или Белинский, например. Вот у них и жизнь интересная, и на самом деле… будили.
— Ну, не всем быть Пушкиными! Пушкин сам по себе, я сам по себе. Каждый в России может работать: будить, жить красивой жизнью, бороться. Только бы воля твердая была.
— Но Пушкин… и хутора.
— А чем же мои хутора хуже пушкинской поэмы?
У ней широко открылись глаза.
— Разве можно сравнить?
— Почему же нельзя? Разве твой отец не творил дело побольше, пожалуй, поэм пушкинских? Пустыню он превращал в благоустроенные поля и сады. Это разве не творчество? Творчество настоящее, прямо как в священном писании: земля была безвидна и бесплодна. Все наше Заволжье безвидно и бесплодно. Пришли наши отцы…
— И стали разорять киргизов и башкир.
— Ну, это, положим, не совсем так. Киргизы и башкиры — дикари. Они должны были сменить образ жизни. Из земли надо извлекать максимум пользы. А они что делали? На тысяче десятин они пасли тысячу овец. Впрочем, мы не обижали никого. Русское правительство отняло у башкир землю или купило за бесценок, давало русским мужикам и русским помещикам.
— И нашим отцам.
— Мой дед и отец и твой отец покупали на чистые деньги.
— Да, по гривеннику за десятину.
— Что ж из этого? Эти десятины были брошены. Кроме типчака, на них ничего не росло. Вся земля впусте лежала. А мы теперь ей дело даем. Мы хлеб на ней делаем, и хлеб не только сами едим, а кормим половину России, и Европу кормим…
— Может быть, ты и прав, а вот я… ждала чего-то большего.
— Чего же большего?
— Не знаю, а чего-то ждала.
Виктор вспыхнул, сказал раздраженно:
— Да, конечно, если бы я был доктором, ходил по больным и получал за это полтинники и рублевки, ты была бы довольна.
— Что ты?
— Или инженером — за полтораста целковых…
— Перестань!
Она посмотрела на него пристально, темными, вдруг глубоко запавшими глазами, повторила:
— Перестань!
— Разве ты не понимаешь, какая путина перед нами? Мы пустыню сделаем цветущим садом. Строить, творить — разве это не дело? Не знаю, как ты, а я… Кажется, я знаю свои пути. В чем цель жизни? По-моему, в творчестве, в борьбе с хаосом. Вот этой дорогой я и пойду.
— А я?
— А ты…
Виктор будто на стену наткнулся, не зная, куда метнуться.
— А ты… мой оруженосец. Мы — двое.
Она опустила голову, обняла руками колено, большая, в синем — в своем любимом — платье.
— Знаешь, я тебе верю. А чего-то хочется. Я думала, жизнь у нас будет необыкновенная.
— Да, у нас жизнь будет необыкновенной.
— Да, да, я верю. Ты прав. Так что-то я в последнее время нервничаю.
— Но что с тобой?
— Знаешь… У меня, кажется, будет ребенок…
В июне в андроновском доме было торжество: крестины. Опять полон дом был гостей, опять был молебен с лохматыми попами, опять в большой зале столы стояли покоем — и за столами шумело все цветогорское именитое купечество. Пили за молодых родителей, пили за стариков — Андроновых и Зеленовых, пили за новорожденного внука Ваню.
Мучник Иван Федорович Волков — балагур и балясник — закричал на всю залу:
— Ну-ну-ну, одному деду есть теперь внучек, есть смена. Только которому деду? Ивану или Василью?
— Ивану, это как пить дать, — засмеялся Иван Михайлович.
Но вмешался Василий Севастьянович:
— А похоже, Василью. Гляди, весь в наш род идет, в зеленовский. Ты нос-то, нос прими во внимание. Нос у него — курнофлястый, как у нас.
Василий Севастьянович говорил серьезно и убедительно.
— Нет, сват, ты не спорь. Внук мой. Я этого внука сколько годов ждал.
— А я не ждал? Га, чудак ты, Иван Михайлович! Будто ты один ждал.
— Да будет вам, сватья, спорить-то, — пропела пьяно сама Зелениха, — жребий лучше метните.
— Не дозволительно метать жребий о живом человеке, а паче о младенце, — забасил поп Кирилла, уже достаточно пьяный, со свеклеющим лицом, — не дозволительно. Но, братие и сестры, будем молить и будем просить молодого мужа, а также молодую жену молить будем: «Не прекращайте сего великого дела, не останавливайтесь на половине пути».
— Верно-о! Го-го-го!
И рев, и хохот, и веселые, прозрачные, солоноватые шутки прервали попову речь. Уже пьяненькие мужчины стеной поднялись вокруг стола с бокалами в руках, а за ними поднимались, смеясь смущенно, женщины, тоже с бокалами.
— Виктор Иванович и Елизавета Васильевна! Просим продолжить! Ур-ра-а!
Попы запели:
— Многая лета! Многая лета!
И весь сонм подхватил, заорал, заревел:
— Многая лета! Ура!
И лезли чокаться со смущенной Елизаветой Васильевной, говорили грубоватые шутки:
— Дорожка теперь проторена — только катайся.
— Почин дороже денег.
— Не забудь, молодая, до двенадцати еще далеко.
— Старайся, Лиза, на пользу отечества! Баба только этим делом и сможет послужить Расее!
Старики и женщины целовали ее в губы, а кто помоложе — влажными губами присасывались к ее руке. Кто-то облил ей платье вином. Поп Кирилла бубнил над ее ухом:
— Ты смоковница, давшая плод. Господь благословит тебя, а мы за твое здоровье хорошенько выпьем.
И, отойдя, уже качаясь, запел, помахивая левой рукой, а в правой высоко держа бокал:
— Многая лета! Многая лета!
И притопнул, как будто собирался пуститься в пляс, и чуть расплескал вино. Гости опять запели, заорали. У дальнего стола оглушительно кричали «ура»: там поймали Виктора, пили за его здоровье.
— Да не погибнет род андроновский! Ур-ра-а!
А через день после пира Виктор уже скакал верхом по заволжской дороге — на Красную Балку. А еще через неделю уехал в Москву, где надо было сдавать летние зачеты.
Лето целое он жил в пустой квартире, работал все дни напролет, не давая воли ни страсти, ни скуке. Он стал серьезнее, словно мысль, что теперь он отец, подстегивала его, состарила. В августе Елизавета Васильевна приехала в Москву с ребенком, нянькой и матерью. И дом ожил, наполнился бодрящим шумом. Тихим светом теперь светились ласки, совсем неутомительные. Виктор видел, что жена его переживает пору безбурного счастья, по-настоящему крепкого, и сам был спокоен и счастлив и работал бодро и упорно. Чаще он теперь думал о своей будущей жизни самостоятельной, о России, о богатстве и бедности народной, и мысли были у него какие-то новые — крепкие и трезвые, какие-то мускулистые, не то что прежде — все розовый туман и расплывчатость.