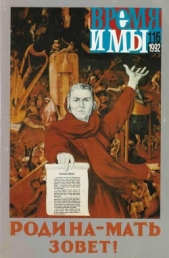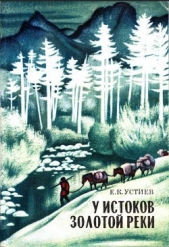К Колыме приговоренные

К Колыме приговоренные читать книгу онлайн
Юрий Пензин в определенном смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока еще не было. В отличие от произведений северных «классиков», в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.
Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остается чувства безысходности, поскольку всему злому и низкому в них всегда противостоят великодушие и самоотверженность. Оттого и возникает по прочтении не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вскоре вызвали на допрос и Еремея. «Ну, что ж, дело наше идёт к концу», — потирая руки, сказал ему следователь и опять предложил папиросу. Еремей от неё отказался и спросил, в чём его обвиняют. Ткачук оказался прав: его обвиняли в злоумышленном вредительстве советской власти, выразившемся в подготовке передачи Японии большого количества золота. Когда Еремей стал это отрицать, по распоряжению следователя в кабинет ввели в кровь избитого человека. Один глаз, как показалось Еремею, у него был выбит, под другим был большой синяк, на лице, похоже, ему тушили папиросы, а от усов остались одни кровавые клочья. С большим трудом Еремей узнал в нём Мария Евгеньевича. «Ну, вот мы и встретились, — весело заметил следователь и, ткнув пальцем на Еремея, спросил: «Он?» Ответить Марий Евгеньевич ничего не мог, у него хрипело в горле, и он, похоже, уже терял сознание. Его вздёрнули за пиджак, облили водой, и когда следователь повторил вопрос, он обхватил голову руками и заплакал. «Ну, вот и хорошо, — сказал на это следователь, — примем это и за раскаяние, и за признание». После этого Марию Евгеньевичу дали подписать протокол очной ставки. Было видно, что, подписывая его, он не знает, что делает. Руки и голова у него тряслись, а зрачок невыбитого глаза бегал, как у человека, которому на шею накинули петлю.
На следующем допросе Еремей категорически стал отвергать предъявленное ему обвинение, и его стали бить. Бил его тупоголовый верзила, и делал он это с садистским наслаждением и в определённой последовательности. Приступая к своему делу, всегда спрашивал: «С чего начнём, татарская морда?» И начинал не с удара по голове, после которого Еремей терял сознание, а с короткого тычка в живот. У Еремея темнело в глазах, спирало дыхание, а когда он падал на пол, верзила ему выкручивал руки и ноги. Удар по голове был последним, после него Еремея отливали водой и волокли к следователю. Что происходило у следователя, Еремей понимал плохо. У него кружилась голова, казалось, стоит неловко повернуться, его тут же вырвет, когда лицо следователя расплывалось, оно становилось похожим на коровью морду, вопросов Еремей не понимал, а слова «диверсия», «золото», «враг народа» тупо били ему по голове и не о чём не говорили. Еремей понимал: в таком состоянии он может поставить свою подпись под любым протоколом допроса. Чтобы этого не случилось, он старался оставить в убегающей в бессознание памяти одно: ничего не подписывать.
Расстрела Еремею не дали, но срок раскрутили на полную катушку. Избежал расстрела он, видимо, потому что дело о соучастии в убийстве Сарданы и об убийстве старухи Сысоя, как надо, до конца не довели, а по второму делу его, видимо, спасло только то, что он не подписал последних протоколов. Как бы в это время ни стряпали дела на врагов народа, видимо, кому-то пришло в голову, что дело Еремея о сговоре с японцами вредить советской власти, о которой, когда он жил в Охотске, никто ничего не знал, не лезет ни в какие ворота. И всё-таки по суду он прошёл, как обвиняемый по 58-ой статье.
Попал Еремей на ураново-касситеритовый рудник Бутугычаг. Закрытый от мира каменной громадой гор, а от солнца и неба тяжёлыми тучами и липкой, как пот, моросью, он не значился ни на каких географических картах, а в спецслужбах проходил под особым литером. Опутанный колючей проволокой, лагерь выделялся сторожевыми вышками с пулемётной охраной, двухэтажным административным зданием, обогатительной фабрикой с высокой дымовой трубой, а всё остальное — и бараки, и хозяйственные пристройки к ним, казались никому не нужными и всеми покинутыми. Только утром, когда били подъём и выстраивались на работы, лагерь оживал, но и в нём, обезличенном колоннами, бригадами и отрядами, живых людей не было, поэтому и в строю стояли не Ивановы и Петровы, а их номера и литеры. Обезличена была и охрана: вся на одно, по-казарменному тупое лицо, она различалась только по званиям, и лишь собаки, рвущиеся с её поводков, имели свои клички. Вся эта серая масса, пропахшая потом и зловонием разлагавшихся в струпьях тел, разводилась по своим рабочим местам. В забоях, раздирая в кровь руки, рубили и взрывали руду, по штольням и уклонам в коробах и тачках поднимали её на поверхность, доставляли на фабрику, дробили в шаровых мельницах, отправляли на варку, поддерживали циркуляцию в сгустителе, извлекали из ловушек «мыло» и отправляли оставшийся концентрат на просушку. И всюду — и в забое, и на фабрике — из руды и концентрата шло невидимое глазу всепроникающее радиоактивное излучение, одинаково незаметное и охраннику, и зэку, но совсем не безобидное, когда через два-три месяца и у тех, и у других выпадали волосы, чернело тело, и только когда они умирали, первого хоронили под красной звездой, второго под колышком с жестяной биркой. Правда, и это было дано не каждому. Зимой закопать в скованную мерзлотой землю десятки трупов в день, и не в ущерб производственному плану, было невозможно, и поэтому свозили трупы в ледник Террасный, и лежали они там, пока не стает этот ледник и не растащат их хищные звери.
Если бы не столкнулся Еремей в этом лагере с односельчанином, отбывающим срочную службу в охране, и его бы снесли в Террасный. Односельчанин был из татар, и звали его Максутом. Небольшого роста и слабого сложения, он выглядел жалко, а когда, спотыкаясь о придорожные камни, вёл колонну с винтовкой наперевес, казалось, что он её уронит и поднять уже не сможет. Рассказал он Еремею и о его родных. Отец, оказывается, жив, считает, что германской войны Еремей не избежал, думает, что не избежал он и гражданской и где-то геройски сложил свою голову. Как всегда, всем наперекор, не сошёлся он и с советской властью, не вступил в её колхоз, а не сослали его никуда потому, что был стар и еле двигал ногами. Мать умерла от тифа, сестра уже замужем и имеет двух детей. И Флера тоже замужем. Она вышла в передовики и не сходит с районной доски почёта. А церковь в селе снесли, но сторож, что играл на балалайке, жив, но на ней уже не играет.
Всё, что рассказывал о родном селе Максут, Еремея не очень трогало. Ему, как и всем, кто не прожил и половины жизни, но уже столкнулся лицом к лицу со смертью, было не до прошлого, одно, с тупой беспощадностью, и днём, и ночью, сверлило голову: как выжить? И не вернулся он, как это случилось с ним в избушке банды Мордючкова, при рассказе Максута, ни к детству своему, когда белый, как снег, гусь клевал его в ногу, а церковный сторож угощал пряником, ни к тому времени, когда он целовал Флеру, а на сабантуе играли гармошки. Страшась будущего, жил Еремей одним настоящим, и когда в лагерь стала поступать по американскому ленд-лизу консервированная колбаса, он ей радовался, но не как утоляющей голод еде, а как средству выживания. Была бы таким средством не эта колбаса, а что-то другое, например, кора лиственницы или ветки стланика, он бы ел и их, не чувствуя в них горечи. А, слушая Максута, он думал: «А ведь и тебя снесут в Террасный». Он видел, как с каждым днём Максут худеет, землистый цвет не сходит с лица, лихорадочно блестящие глаза уже не скрывают предсмертной, как у всех обречённых, тоски. Зная, что Максуту всего-то ещё восемнадцать, Еремею его было жалко.
А спас Еремея от смерти в Бутугычаге не сам Максут, а случай, связанный с ним. После двух суток непрерывного дождя расползлись дороги и вздулись реки. Колонну, в которой шёл и Еремей, вели на добычную штольню. По бокам её, с винтовками наперевес и с собаками, шла охрана. Сыпал дождь с мокрым снегом, дул ветер, дорога, по которой вели колонну, раскисла, в рытвинах и ухабах скопились глубокие лужи. Зная, что шаг в сторону — получишь пулю, зэки луж не обходили, шли прямо по ним, черпая холодную, как лёд, воду своими чунями. Максут шёл справа, мокрая шинелишка его не грела, он еле передвигал ногами, и, казалось, дойти до штольни у него не хватит сил. Глядя на его синее от холода лицо, на котором, казалось, не тает уже и снег, Еремей подумал: «Нет, долго он не протянет». Не лучше выглядели и другие охранники. И у них, как и у Максута, были синие лица, сгорбившиеся на спине мокрые шинели; и они прятали от холода в этих шинелях свои руки. Как и Максуту, им тоже было по восемнадцать, и они, как и он, вели колонну туда, где ни им — защитникам отечества, ни зэкам — врагам народа, не было пощады от радиоактивного излучения, за которым стояла смерть. «Их-то за что?» — не понимал Еремей. По-боевому выглядел один начальник колонны, старшина Кабин. Был он нетрезвым. Считая, что водка выводит из организма радиоактивный яд, пили её все, кому к ней был доступ. Лицо у Кабина от водки было красным, хоть кипяти на нём чайник, поэтому снег, падая на него, сразу таял. «То-оропись!» — покрикивал он, бегая из одного конца колонны в другой.