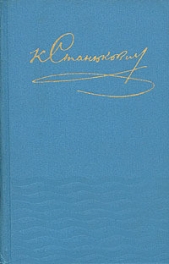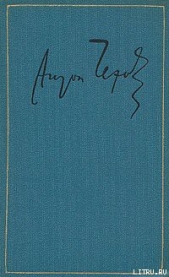Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы.
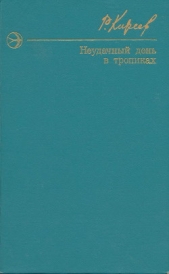
Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы. читать книгу онлайн
В новую книгу Руслана Киреева входят повести и рассказы, посвященные жизни наших современников, становлению их характеров и нравственному совершенствованию в процессе трудовой и общественной деятельности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда наконец очередной строп не появился, хотя тележка была пуста, откатана и приготовлена — сели не сразу. Ждали: то ли перекур на «Альбатросе» и им тоже можно подышать, то ли просто задержка. Если задержка, лучше перестоять минуту, чем, едва расположившись и настроив тело на отдых, снова вскидывать его. Но то был перекур. На фоне синего неба, уже по–вечернему густеющего, высунулась женская голова в белом—счетчица с «Альбатроса». Крикнула и, хотя слов не разобрать, ясно было, что не стармех же нужен ей и не Володька Шатилин, а звеньевой. Герасько взял свои записи и полез наверх —сверять цифры. Остальные повалились на тару. Там, в глубине, тары было больше, целая гора — как угодно располагайся, но Рогов опустился с краю. Ноги дрожали; он чувствовал это, хотя, если смотреть, они были неподвижны, мертвы даже: развалились в разные стороны.
— Михал Михалыч!
Рогов обернулся. Егорычев протягивал сигареты — издалека, так что стармеху не дотянуться, но напряженная поза матроса выражала готовность тотчас же встать — дайте знак только. Рогов поспешно замотал головой.
Курить запрещалось в трюмах, и кто же, как не старший механик, должен следить за этим, но сейчас они не помнили, что он старший механик, и Рогову было приятно это, хотя и грызло: нельзя ведь, а курят.
В теле перемещалось что‑то, текло нескончаемо и приятно. Мыслей не было, а если и были, то где‑то так далеко отсюда. И вдруг. подумал— осознанно и ясно: вот это и есть главное. «Это» означало все, что сейчас было: усталость, молчаливое мужское единение его и этих курящих. контрабандой матросов, бездумность даже: думать, считать коробки, поддерживать связь с внешним палубным миром — все это лежало на звеньевом Герасько, они же освобождены…
Сверху дотянулся гудок — один, другой, третий. «Гелий» отошел? Сейчас «Меридиан» будет швартоваться — предпоследнее судно, что дрейфует с полным грузом в ожидании борта. Теперь лишь «Херсон» остался. С этих двух снимем рыбу полностью, и без умопомрачительной спешки, без подхват: подразгруженные, суда могут спокойно тралить себе и четверо и пятеро суток.
«Альбатрос» отойдет к ночи, уступив место «Херсону» — стармех подумал об этом, и сразу возник перед ним Петька—-как понуро сидит он на расстоянии от стола, точно подсудимый, его больное приспущенное веко увидел. «Альбатрос» отойдет, увозя с собой Петьку, которому он вынес нынче страшный приговор. Когда теперь увидятся они?
Что‑то сдвинулось в его массивном теле, и это уже не от усталости, другое. Он обрадовался, когда увидел Герасько. Спускается — сейчас строп пойдет.
Шесть без минут. Ещё полтора часа работать, с минутами.
Он ворочался в острых горячих струях душа, шлепал по телу, отфыркивался. Усталость уходила… Конечно, им малость повезло: последние полчаса виралитару, но все‑таки умаялся крепко. Сейчас думать об этом весело, а там, в трюме, из последних сил тянул.
Дистиллят хорошо растворял воду — лёгкая, ласкающая кожу вода, но каково пить её? Пьем… А ведь есть на борту аппарат для насыщения дистиллята солями— прекрасный аппарат! Пока был запас солей (ещё шведский), вода не уступала колодезной. На два рейса хватило, и все — никакими силами не выцарапать больше. В общем‑то, стармех ни при чем здесь (в каждую стоянку обивает пороги отдела снабжения), новее же водичка на его совести. Плохой ты старший механик, коли поишь команду этакой дрянью.
Рогов закрыл краны. Вытирался, наслаждаясь чистотой и лёгкостью тела, свежим духом, что исходил от полотенца, даже чувством голода: .как сладко. поужинает он сейчас! Вот только одно мешало, и обозначалось это — словами: Петька Малыга.
Все вроде было правильно — и в их недавнем бурном объяснении, и в суровости Рогова к бывшему ученику — правильно, но почему тогда не идёт из головы Петька? Стармеху не за что было упрекнуть себя, во всяком случае, ни в едином слове не раскаивался — справедливые и точные были это слова — а Петька все стоял и стоял перед глазами. Почему?
Он прошел в спальню, натянул на распаренное красное тело майку и брюки. К ночи «Альбатрос» отойдет, и когда теперь увидятся они?
Постучали, он буркнул, разрешая (на ужин пора, а тут несет кого‑то), но вспомнил, что перед душем заперся. Открыл. Перед ним стоял Виктор Сурканов — черный, белозубый, глаза смелы и блестят, а в руках тарелки — одна на другую опрокинута.
— Разрешите, Михал Михайлович?
Рогов отступил, пропуская. Сурканов, как фокусник, приподнял верхнюю тарелку, и оттуда стрельнуло паром. Мясной горячий дух вырвался на волю.
— Чего это? — но понял уже, и сжал губы, и не удивился, когда услышал:
— Обещанные отбивные, Михал Михайлович. Пока горячие. — Он протягивал тарелку.
— Черепаха, что ли?
— Ну!
Рогов сопел и не брал. Сурканову было горячо, он перебирал пальцами, в другую руку переложил тарелку.
— Укокошил все же? — спросил стармех, а у самого от желания и аппетита во рту свело.
— Так я же говорил вам. — Сурканов, шагнув, поставил тарелку на стол. — Для того ведь оно и создано.
«Тоже. мне, — подумал стармех. — Философ».
— Кто — оно?
— Оно! — Сурканов, блестя глазами, кивнул на темнеющее в луке мясо, сочный и прекрасный дух которого разросся теперь во всю каюту. —Приятно кушать.
К двери направился, но стармех остановил его.
— На подвахту с восьми. Не забыл? — хотя знал, конечно, что не забыл — такие вещи Сурканов не забывает.
— Меня освободили. — Черные глаза глядели на старшего механика дерзко и весело.
— Освободили? — брюзгливо переспросил Рогов. — Кто же это? — А ведь понимал, что Сурканов, цыган проклятый, дразнит его, и не допрашивать тут надо, а тем же отвечать.
— Вон! — он кивнул на тарелку с отбивными. — Черепашиной откупился. — Засмеялся и исчез за дверью.
Рогов грузно стоял посреди каюгы, и было ему, внезапно нахлынув, тоскливо–тоскливо. О Петьке думал. «И долго ты намерен искать себя? Всю жизнь, что ли?» — «Может быть, и всю жизнь». Но не слова были главными — тон, каким говорил их, поза, опущенное больное веко. «Вы ведь ничего не знаете обо мне, Михаил Михайлович. Ничего».
— А что я должен знать? — вслух спросил Рогов.
Глупо: стоять посреди каюты, один, и беседовать с самим собой. Глупо! Он зашевелился, завозился, словно был окутан чем‑то и предстояло ему выбраться, увидел черепашину, но сейчас она не показалась ему такой аппетитной и не пахла. Подойдя к столу, взял толстыми пальцами щепоть лука.
Как звали ту Петькину девушку? Она встречала его, когда возвращались из рейса, и два или три раза он приходил с нею к ним (Клаве она тоже нравилась). Когда Петька уехал в училище, Рогов не видел её долго. Встретив, обрадовался: сейчас узнает наконец о Петьке, стал расспрашивать, а она вдруг припала к нему и заплакала. Он растерялся. Стоял с растопыренными руками и не знал, что делать. Он все понял (так ему показалось — теперь‑то он знает, что не понял ничего), но как заговорить об этом, да и надо ли? Выдавил хрипло: «Он обидел тебя?» Она подняла на него глаза — они были светлые и хорошие, мокрые. «Если он обидел тебя…» — с угрозой, хотя что он мот сделать, как наказать Петьку? Разве что осудить его в сердце своем, перечеркнуть навсегда? «Нет». Доверчиво глядела ему в глаза и слегка — покачивала головой: нет, нет. Ему полегчало, а потом нехорошо сделалось: как мог он подумать так о Петьке? Она ещё говорила, но ему одно запомнилось: «Он вас очень любил». Вас! Не меня, а вас… Потому так и откровенна с вами.
Как звали её? Она стала бы хорошей женой — верной! — а что может быть важнее для моряка? — но Петька и тут напортачил. Вся жизнь наизнанку! А был бы стармехом уже, хорошая жена, дети —все сам себе напортачил. Перед глазами стояло, как сидит Петька Малыга, отодвинувшись вместе с креслом от стола, опущенные руки, немолодой, невеселый, и нету счастья ему, а он, бывший учитель, крёстный, по существу, отец, хлещет его безжалостными словами.
Стармех натянул рубаху с короткими рукавами (жёсткая от крахмала). Захватив тарелку с отбивными, в салон пошел. Ели вдвоём с Журко: капитан не приходил ещё, а чиф — на мостике и будет там до полуночи. Все — смешалось на промысле… Стало быть, «Альбатрос» при чифе отойдет. Рогов подумал об этом с досадой, и эта‑то не понятная поначалу досада выдала ему его неоперившееся ещё намерение: связаться по УКВ с Петькой. Значит, надо, раз есть в нем такое желание. Он понятия не имел, ни что скажет Петьке, ни как объяснит свой срочный вызов к аппарату. Объяснит… Вот разве что при Антошине неловко — вроде бы на попятную идёт, но было и отрадное в его присутствии: стармех как бы дополнительно наказывал себя за свою незрячую жестокость ; к Петьке.