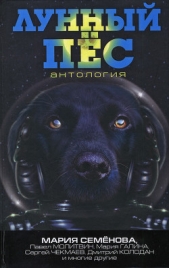Лазоревая степь (рассказы)

Лазоревая степь (рассказы) читать книгу онлайн
Лазоревая степь; Чужая кровь; Нахаленок; Смертный враг; Калоши; Путь-дороженька; Продкомиссар; Илюха; Кривая стежка; Батраки; Червоточина.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты, батя, с роду так… Ну, рази это пахота? Это увечье, а не работа! Скотину порежем, начисто… Ты погляди кругом, окромя нас, пашет хоть одна душа?
Яков Алексеевич палочкой скреб лемеши, гундосил:
— Ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так-то говорят старые люди, а ты, молодой, разумей!
— Какая там пташечка! — кипятился Максим. — Она, эта самая пташечка, будь она трижды анафема, не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду, а ты, батя… Да што там… Кхе-хе… Кхе!..
— Ну, отдохнули, трогай, сынок, с богом!
— Чево там трогай, налево, кругом и марш домой!
— Трогай, Степан!
Степка арапником вытягивал сразу обоих борозденных. Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи.
С того дня, как стал Степка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. Яков Алексеевич открыто говорил:
— Теперь, Степан, не будет прежнево ладу. Ты нам навроде как чужой стал… Богу не молишься, постов не блюдешь, батюшка с молитвой приходил, так ты и под святой крест не подошел… Разве ж это дело? Опять же хозяйство, при тебе слово лишнее опасаешься сказать… Раз уже завелась в дереве червоточина — погибать ему, в труху превзойдет, ежели во-время не вылечить. А лечить надо строго, больную ветку рубить не жалеючи… В писании и то сказано.
— Мне из дому итить некуда — отвечал Степка. — На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки.
— Из жилья мы тебя не выгоняем, но поведенье свое брось! Нечего тебе по собраньям шляться, на губах еще не обсохло, а ты туда же рот раззеваешь. Люди в глаза мне смеются через тебя, поганца.
Старик, разговаривая со Степкой, багровел, едва сдерживал волнение, а Степка, глядя на холодные отцовы глаза, на жесткие по-звериному изломы губ, вспоминал упреки ребят-комсомольцев:
— Обуздай отца, Степка. Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственные орудия. Стыдно.
И Степка, вспоминая, действительно краснел от жгучего стыда, чувствовал, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному деру, — к человеку, который зовется его отцом.
Будто каменной глухой стеной отгородилась от Степки семья. Не перелезть эту стену, не достучаться…
Отчуждение постепенно переходило в маленькую сначала злобу, а злобу сменила ненависть. За обедом, случайно подняв глаза, встречал Степка ледянистые глаза Максима, переводил взгляд на отца и видел, как под сумчатыми веками Якова Алексеевича загораются злобные огоньки, в руке начинает дрожать ложка. Даже мать и та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошенные слезы жгли глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрепясь, наскоро дообедывал и уходил из дома.
По ночам часто Степке снился один и тот же сон: будто хоронят его где-то в степи, под песчаным увалом. Кругом незнакомые, чужие люди, на увале растут сухобылый бурьян и остролистый змеиный лук. Отчетливо, как на яву, видел Степка каждую веточку, каждый листик…
Потом в яму бросали его — Степкино — мертвое тело и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный ком падает на грудь, за ним другой, третий… Степка просыпался, лязгая зубами, с стесненной грудью, и, уже проснувшись, дышал глубокими частыми вздохами, словно ему нехватало воздуха.
На время кончились полевые работы. Степь пустовала без людей, лишь на огородах маячили цветные платки баб, половших картофель. По вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов. Перезвоны гармошек немо звенели в сиреневой тишине улиц и проулков. Розовые зори подолгу багровели за станицей, там, где урубом кончается степь и начинается пухлая синь неба. Подходил покос. Трава вымахала в пояс человеку. На остреньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалась соком сурепка, в логах кучерявился конский щавель.
Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку, по ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, на вольные земли станичного фонда. Тухли звезды, пепельно серело небо, зорю выбивал перепел; просыпаясь под арбой, Степка слышал как по росе цокотала косилка, выкашивая краденую траву.
Сена набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за беремя сена взять добрые деньги, а если денег нет, то и телушку-летошницу с база на свой баз перегнать. Вот поэтому-то Яков Алексеевич и вывершил прикладок вышиной в три косовых. Злые люди поговаривали, что и чужого сенца прихватил ночушкой Яков Алексеевич, но ведь непойманный — не вор, а так мало ли какую напраслину можно на человека взвалить…
В субботу затемно пришел Прохор Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и заискивающе улыбался. „Пришел быков у отца просить“, — подумал Степка. Сквозь изодранные мешочные штаны Прохора проглядывало дряблое тело, босые ноги точились кровью, в глубоких глазницах тускло, как угольки под золою, тлели слегка раскосые черные глаза. Взгляд их был злобно-голоден и умоляющ.
— Яков Алексеевич, выручи, ради христа! Отработаю.
— А што у тебя за беда? — спросил тот, не вставая с кровати.
— Быков бы мне на день… Сено перевезть. Завтра день праздничный… а я бы перевез… Разворуют сено-то!
— Быков не дам!
— Ради христа!
— Не проси, Прохор, не могу. Скатина мореная.
— Уважь, Яков Алексеевич. Сам знаешь, семья… чем коровенку зимовать буду? Бился-бился, не косил, а по былке выдергивал…
— Дай быков, отец! — вмешался Степка. Прохор метнул в его сторону благодарный взгляд, суетливо моргая глазами, уставился на Якова Алексеевича. Неожиданно Степка увидел, что колени у Прохора мелко подрагивают, а он, желая скрыть невольную дрожь, переступает с ноги на ногу, как лошадь, посаженная на передок; чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледнел, выкрикнул лающим голосом:
— Дай быков! Што жилы тянешь!..
Яков Алексеевич насупил брови.
— Ты мне не указ. А коли такой желанный, то езжай в праздник сено вози! Своих быков в чужие руки я не доверяю!
— И поеду.
— Ну, и езжай!
— Спасибочко, Яков Алексеевич! — выгнулся в поклоне Прохор.
— Спасибо — спасибом, а молотьба придет — на недельку приди, поработаешься.
— Приду.
— То-то, гляди!
В воскресенье, едва лишь засветлел рассвет, под окнами хат и хатенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца.
— Ты чево спозаранку моташи́шься?
— Рассвенется, приходи в школу на собрание. — Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятно пробурчал:
— Статист приехал посевы записывать… Для налогу. Вот какие дела… Прощевайте!
Пошел к калитке, на ходу чиркая спичкой, громыхая сыромятными чириками. Яков Алексеевич задумчиво помял бороду и, обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул:
— Быков повремени давать Прохору. Нынче утром собрание вщет налога. Статист приехал. Пойдем обое со Степкой. Он комсамалист, может, ему какая скидка выйдет. Што же задарма он, што ли, обувку отцовскую бьет, по клубам шатается.
Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу.
— Ты, гляди, на старости лет не сдури… Записывай замест двадцати десятин — шесть, либо семь.
— Нашел ково учить, — усмехнулся Яков Алексеевич.
За завтраком Яков Алексеевич небывало ласковым голосом сказал Степке:
— С Прохором поедешь за сеном на ночь, а зараз одевай праздничные шаровары и пойдем на собрание.
Степка промолчал. Позавтракал и, ни о чем не спрашивая, пошел с отцом. В школе народу, как колосу на десятине в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, глядя сквозь рыжую бороду, спросил: