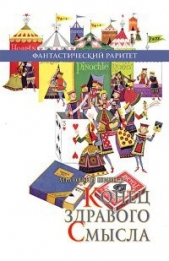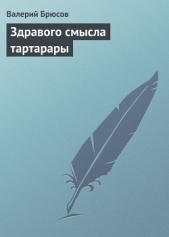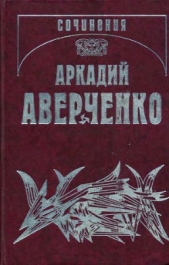Конец здравого смысла (сборник)

Конец здравого смысла (сборник) читать книгу онлайн
Русская авантюрная сатира.
Составитель: А. Вулис
Ташкент: Шарк, 1993 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И только тут вспомнила, что тетка вместо ужина безвыходно просидела за ширмой.
IX
Когда наутро Ипполит Кисляков проснулся, он почувствовал, что весь чудесный вчерашний подъем исчез, вместо него появилось еще большее ощущение каких-то гнетущих предчувствий.
В этих предчувствиях не было ничего мистического, так как они всецело касались предстоящего сегодня собрания в музее.
На дворе был серый пасмурный день, а в глазах противное мелькание, и сердце иногда со сладким и жутким замиранием как будто проваливалось куда-то и задерживалось на один такт.
Когда он проходил в ванную, чтобы стать третьим в очередь, он услышал в кухне отрывок разговора; говорила жена слесаря:
— …Желательно было бы знать, из каких это средств?..
— Теперь об средствах не спрашивают, — ответил ей в тон голос мещанки.
Кисляков понял, что это обсуждается вчерашняя пирушка, и тут же его сердце, ухнув куда-то, пропустило сразу два такта.
Кисляков вдруг почувствовал острую потребность жаловаться. Он сел и написал письмо Аркадию:
«Бесконечно рад твоему приезду. В это тяжелое, беспросветное время необходим больше, чем когда-либо, друг, т. е. человек, которому можно все сказать, так как в душе мертвым грузом лежит то, что не имеет права выявиться наружу. Твои слова „о вере“ пришлись по самому больному месту. В этом моя трагедия и трагедия в том, что свое дело я оставил, чужая стихия не дает стимулов для творчества. Лишь бы просто существовать. Но без веры жить нельзя. Напрягаю все силы, чтобы поверить. А в то же время приходит мысль, что, может быть, эта вера является для меня не верой, а изменой. И опять раздвоение и в результате пустота. Со стороны видно только, что я великолепный работник. Но то дело, какое я делаю, является моей чечевичной похлебкой. С нетерпением жду тебя».
Если бы Кисляков знал, что через полтора месяца, после драмы 1-го октября, это письмо будет в руках следователя, он наверное не написал бы его.
А когда он шел по улице, мокрой от дождя (уж тут без пальто не пойдешь), то все ему казалось до того ужасно, противно в этой жизни, что не хотелось ни на что смотреть.
Идет трамвай, весь переполненный съежившимися от сырости людьми, с крыши у него сливается вкось дождевая вода. Разбрызгивая грязь и подпрыгивая на больших ухабах, летит с брезентовым навесом автомобиль. Деревья на бульваре, вчера еще блестевшие на ярком августовском солнце, теперь понуро обвисли своими мокрыми ветвями и роняют осенние капли на пропитавшийся водой песок аллеи.
Около подъезда стоит, дрожа от сырости и первого холода, мокрая облезлая собака — живое воплощение жестокости и неумолимости жизни. А все-таки живет! Зачем?
Кислякову в этом настроении казалось, что было бы изумительным блаженством убежать куда-нибудь от людей, чтобы никого не видеть и жить своим внутренним миром. Ему даже на минуту показалось уютно от этой мысли. Исчезнуть так, чтобы даже Елена Викторовна не знала. Тогда, наверное, в ней шевельнулась бы к нему былая любовь. Да, былая… Он вдруг подумал о том, что она почему-то не сделала ему замечания насчет кукольной дамы. Может быть, она почувствовала, что он стоит на краю, что от великого отчаяния, а не от пошлости душевной он таков. Но все равно, хорошо бы и ее не видеть, никого не видеть и остаться совсем одному, наедине с своей душой. Тогда, может быть, придет исцеление.
Но сейчас же, увидев номер трамвая, который он привык видеть на остановках около музея, он вспомнил, что его ждет собрание, что его работа может здесь прекратиться, и тогда что?
X
С самого начала революции вся возможная в только что родившейся Республике работа могла быть разделена на три разряда.
Для всякого мирного интеллигента самая неприемлемая, так сказать, третьесортная, третьеразрядная работа была там, где нужно было активно проводить революцию, защищать ее с оружием в руках на фронтах или входить в непосредственное соприкосновение с массами, увлекать их пропагандой, вести в бой с враждебной внутренней силой.
Второй разряд — более приемлемый — был там, где содействие революции было косвенное и пассивное, когда приходилось просто исполнять (и нельзя было не исполнить) мероприятия власти, имеющие отношение к укреплению нового строя. Исполнение это было чисто механическое, не сопряженное ни с каким насилием, — следовательно, не очень противоречащее интеллигентному кодексу моральных законов. Такова была работа в большинстве советских учреждений: технических, коммунальных, банковских. И даже, — с некоторой, правда натяжкой, — в налоговых. Человек просто служит, потому что революция застала его на этом месте. Но он сам никого не насилует, не отнимает имущества, не сажает в тюрьму, не призывает словом и примером к укреплению революции, — словом, не старается. Наоборот, он даже помогает своим. Будь на его месте какой-нибудь рабочий, тот бы в бараний рог гнул.
Так мог сказать каждый интеллигент-идеалист, работающий в такого рода учреждениях.
И была работа первого разряда. Во всех отношениях первого!
Это та, которая совершенно не имела никакого отношения к революции. Она не содействовала ей ни прямо, ни косвенно. А иногда даже почти противоречила ей, и в то же время была не только легальна, а даже еще поддерживалась и оберегалась революционной властью.
Такая работа была в учреждениях по охране памятников искусства и старины.
Работающие здесь могли гордиться тем, что они ни в малейшей степени не поступились своей интеллигентской совестью, не омрачили теней прошлого, которое знало только мучеников за великий идеал всеобщего равенства, высших начал справедливости с отрицанием всякого насилия, с чьей бы стороны и ради каких бы целей оно ни исходило. Работая в этих учреждениях, они уже смело могли гордиться, что ни в малейшей степени не приложили своей руки ни к каким насилиям. И потому, естественно, смотрели с некоторым презрением на тех, кому приходилось принимать хотя бы и косвенное участие в насилии власти. Тогда как они не только не приложили к этому своих рук, но даже работали над сохранением того, что революция разрушила.
Вполне естественно, что здесь подбирались главным образом те люди, которым была дорога старина, как милый призрак былой жизни. Пролетариат меньше всего чувствовал нежность к призракам, ничего в них не понимал, но на слово верил, что призраки имеют право на сохранение, и на первых порах предоставлял заниматься этим делом тем, кому это нравилось, кто понимал в этом толк. А сам заполнил другие, более понятные ему области государственной жизни и работы.
Результатом этого было то, что почти все прочие учреждения с первых лет революции испытывали на себе «вторжение улицы»: швейцары были отменены, люди входили в учреждение в грязных сапогах и мокрых пальто, бросали на пол окурки и вносили с собой полное нарушение той священнодейственной и корректной тишины, какая была в казенных учреждениях до революции, и только учреждения по охране памятников старины и искусства оставались в полной неприкосновенности от этого вторжения.
В огромном музее, где работал Ипполит Кисляков, царили прежняя церковная тишина и чистота. Оставались в неприкосновенности мягкие коврики у входных дверей, оставался благообразно-важный швейцар Сергей Иванович, почтительный к высшим и строгий к низшим. Строгая корректность, обращение на «вы», услужливость низших к высшим были здесь незыблемы. Технические служащие почтительно относились к высшему персоналу. А Сергей Иванович никому из сотрудников не позволил бы самому надеть свое пальто или поднять уроненный платок, зонтик. Он был точно няня из времен крепостного права и на всех служащих из настоящих господ смотрел, как на своих молодых барчуков, за которыми нужно смотреть да смотреть, потому что сами-то и одеться как следует не умеют, да и неприлично: они будут одеваться, а он — стоять.