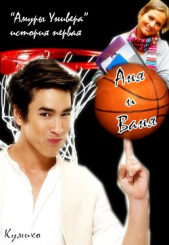Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поглядите-ка на Люлюшку, — сказал вдруг дядя Коля, он сидел рядом с Ниной Филипповной. Нина Филипповна захохотала, а мама проговорила спокойным голосом: «Ей давно спать пора».
— Не хочу спать, — прошептала Люлю, не оборачивая головы.
— Да нет, вы поглядите! Она глаз от Наталии Сергеевны не отрывает. Так и впилась. Да уж не в первый раз это, кажется… Ну не покорительница ли вы сердец, Наталия Сергеевна? От старого до малого…
На дяди Колины слова все засмеялись, а тетя Маша сказала:
— Да, Люлюша очень любит Наталию Сергеевну. Всегда, чуть вы приедете, бежит… Это так мило…
Люлю все шире и шире открывала глаза. Что-то внутри у нее заколотилось, запрыгало, должно быть — тайна, которую у нее отнимали, а она, тайна, отниматься не хотела. И это был еще не конец. Ужасное наступило, когда вдруг «она», улыбаясь, с ямками на щеках, наклонилась немного вперед и сказала:
— Так ты любишь меня, Люлю? Правда, любишь?
Люлю порывисто сползла, задирая платьице, с колен гостьи и, как чурку, сжав медведя крепко сложенными руками, остановилась прямо перед Натальей Сергеевной.
— Неправда. Не люблю, — сказала она. И, чтоб уж твердо было, — потому что наступил последний момент последнего спасенья, — прибавила, глядя на «нее» широкими глазами:
— Дрянь. Гадость. Тьфу!
На другой день утром Любочка сидела у бабушки в мезонине, за столом, а мама ходила по комнате и сердилась.
Что-то много она говорила: что ей стыдно за Люлю, что Люлю невежливая девочка, что браниться нельзя… и много еще, чего Любочка не слышала, потому что совсем и не слушала, занятая чем-то другим, своим, важным.
Бабушка, наконец, погладила ее по головке и сказала маме:
— Ну, что ты ее? Такой праздник нынче, Рождество Христово, а ты на нее сердишься. Ну, она больше не будет. Разве она понимает?
Люлю вытянула губки вперед, потом улыбнулась. Подумала про себя (опять не словами, конечно), что вот и мама — большая, а большие-то, как раз, ничего и не понимают. Особенно о тайнах, — ни-чего!
Оттого они такие и глупые, — почти все.
Декабрь, 1932
ПЕРЛАМУТРОВАЯ ТРОСТЬ
(Опять Мартынов)
Писал любовные мемуары. Бросил. Все какие-то случайные анекдоты, короткие. А ведь бывало же посерьезнее? Попробуем. И чтоб краткостью не соблазняться, но чтоб не надоедали и подробности, а писать искренно и старательно. Долгих подступов к истории тоже не побоюсь.
I
Бабушка
Случилось это в годы, когда я был женат на моей бабушке.
Бабушка к истории отношения прямого не имеет. Упоминаю вскользь, ради отношения очень непрямого, — дальше видно будет, какого. А про женитьбу скажу только, что был момент, когда мне нужно было оказаться «женатым», иначе хоть в петлю. Почему — неинтересно. Вот она тогда и выручила меня, дорогая моя покойная бабушка (я ей троюродным внучатым племянником приходился, но с детства любил, уважал и бабушкой звал). У нее, в Долгом, в Тамбовской губернии, мы и обвенчались утречком рано, а после, днем, я уехал. Почти что прямо опять в Германию.
Вот, собственно, и все. Теперь будет новый подступ, длинный, в виде целой истории: чужой, не моей, но для моей ее приходится рассказать.
II
Чужая история. Начало
Франц фон Галлен.
Самый мой близкий друг, даже единственный друг среди кучи приятелей, студентов Гейдельбергского университета.
Старше меня, — ну, положим, я-то был тогда чуть не самым юным из всех студентов. Никогда я не думал, что такого (современного) немца могу встретить. Знали, были прежде, но живого не надеялся увидать. Был очень немец (из хорошей, старой немецкой семьи, чрезвычайно, притом, богатой), и окружало его какое-то нежнейшее обаяние. Мечтательной тишины — соединенной с острой мыслью, всегда глубокой. Писал, конечно, стихи (мне они казались прекрасными, не хуже Новалиса) и серьезно занимался философией.
С философии сближение наше началось; потом уж пошло дальше.
И с виду Франц мне казался таким, каким должен бы, по моему представлению, быть или молодой Шеллинг, или тот же Новалис, — кто-нибудь из дорогих мне прежних немцев; я их обожал. От плотного бурша в нем — ничего. Какие глаза, с голубыми блесками! Тонкий, даже слишком тонкий стан. Рисунок губ немножко беспокоил: розово-нежные, складывались они с какой-то трогательной беспомощностью.
Мы стали неразлучны. У меня не было от него тайн. У него, я думал, тоже. Отношения идеальной дружбы. Как Тик и Вакенродер, восторженно вспоминал я.
Никакого оттенка старшинства в его дружбе не было. Только временами, неожиданно, проявлялось в ней что-то не совсем понятное для меня; какое-то нежно-ласковое отдаление, словно бережность по отношению ко мне.
Но я и не задумывался над этим.
Потом мы расстались. И потекли годы. Разделили нас? И да, и нет. За эти годы я несколько раз видел его, возвращаясь в Германию; но не это, а наша, не всегда частая, но постоянная переписка сблизили нас… и совсем по-новому. Ушла юная, гейдельбергская восторженность, — Бог с ней! Я узнал Франца, как он есть, и, по-человечески, верно, привязался к нему. Я, впрочем, вообще верен.
Потому, когда пришло это последнее письмо, где он звал меня приехать, хоть ненадолго, — я не задумался. Давно его не видал, но то, что случилось с ним года два тому назад, — знал. Теперь Франц зовет меня. Зовет успокоенным, почти веселым письмом. Но все-таки зачем-то я ему нужен? Поеду.
И поехал.
III
Драма и трагедия Франца
Сквозь глициниевый покров, бледно-сиреневую сетку, шелковистую — ядовито-зеленое Ионическое море. Высокое. С муаровыми лесами ближе к скалам. А больше ничего. Направо и налево от веранды — буйно заросшие горные уступы, — это сад. Вилла — крошечный домик, — точно спрятана со всех сторон, точно провалилась она в цветущую заросль.
— Ты мой друг, — говорит Франц, — самый близкий друг. Ты все знаешь, ты все можешь проникнуть умом и сердцем. Ты мне нужен иногда, как никто в мире. Но я не обманываю себя: понять ты меня не можешь.
Милый, тонкий профиль на сиреневом шелке глициний. Глаза опущены.
— Франц, что ты называешь «понять»?
— Как если б ты был мной… на минуту. Да нет, вернулся в себя — опять забыл. Это — вот эта часть человеческой жизни и существа, — самая забвенная. И друг в друге самая непонятная, если не схожая. Могу встретить человека случайного, далекого, глупого, противного, но который будет понимать. Мы с ним будем «мы»…
— А я с тобой — никогда? — перебил я. — Ты прав, вероятно; если речь о таком понимании. Только видишь ли… Ты слушаешь меня, Франц? Одни, как ты, познали себя; для других, как для меня, все тут загадочно, и я сам не знаю хорошенько, с кем я — «мы». Кажется, не с тобой… Но, кажется, — и не с ними…
— Нигде? — улыбнулся Франц и встал. — Вот уж неправда! Это-то я о тебе знаю, и ты сам знаешь. Но оставим пока. Хочешь, пройдемся? К Дикой скале, вниз?
Неслышно ступая, вошел один из служителей Франца.
— Signor…
Сказал что-то Францу, я не разобрал, хотя по-итальянски знал недурно. Но к сицилианскому их говору еще не привык.
— Вот, не могу, — произнес Франц, слегка пожав плечами. — Джи-ованне уверяет, что со снимками что-то неладно, которые у меня сушились. Надо пересмотреть. Ты придешь вечером? Перед закатом?
Я обещал. И, взяв шляпу, вышел из сада на ослепительную каменистую тропинку.
Я не живу у Франца. Он устроил меня в знакомой ему семье, у венгерского художника, женатого на немке; красивая вилла по ту сторону городка, Флориола.
Домик Франца, запрятанный так, что ниоткуда его не видать, называется Pax. А Франц здесь, в этом крошечном городке Bestra — навсегда. Так он говорит, так мне верится, хотя… мне почему-то за него больно, я даже возмущаюсь. Всю жизнь… а есть ли ему 35 лет?